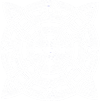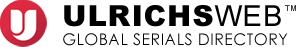FROM SAIRAM TO KUBACHI: SOCIAL AND CULTURAL CONTEXT OF THE FIFTEENTH CENTURY DISHWARE EPIHGRAPHY
- Authors: Babajanov B.M.
- Issue: Vol 20, No 3 (2024)
- Pages: 531-543
- URL: https://caucasushistory.ru/2618-6772/article/view/17159
- DOI: https://doi.org/10.32653/CH203531-543
Abstract
This study attempts to fill the gaps in the research on 15th-century glazed ceramicware found across a vast region extending from Sairam in Southern Kazakhstan to Kubachi and the southern borders of Iran, as published in numerous articles and monographs. This paper focuses primarily on the inscriptions adorning these ceramics, which occasionally include the names of the artisans, dates, and places of manufacture. In our paper, we present a previously unpublished fragment of inscribed dishware from Old Tashkent. The study reveals that the majority of inscriptions on ceramics from this period are excerpts from Sufi poetry. We have successfully identified the authors of these poems. Previous publications typically provided only cursory readings and translations of the epigraphic content without attempting to identify the authors or interpret the texts within cultural contexts or as potential reflections of Sufi ideology. We argue that a “Sufi reading” of these texts significantly alters their interpretation and translation. However, when isolated from their original poetic context, the meaning of these fragments often becomes utilitarian, a part of gift-giving wishes. This transformation does not necessarily indicate a complete desecration of the original text, but rather reflects the cultural demands and codes of the typical consumers of this ceramicware within the framework of a “folk perception” of Sufi poetry.
Введение
Парадная посуда XIV–XV вв. (на раскопках или среди подъемного материала) довольно частая находка на памятниках, разбросанных на территории Большой Центральной Азии, Кавказа (в основном, в Кубачи), Ирана и других регионов, входивших в состав государств поздних Джучидов и позже Тимуридов, и хранится в известных музеях и частных коллекциях. Эта посуда расписывалась узорами в разных цветовых гаммах: узоры черным цветом под прозрачной темно-бирюзовой (иногда зеленой) глазурью, либо синим цветом на белом фоне (в подражание китайской посуде). Такая посуда, найденная в разных регионах, нередко включала в себя надписи, оставленные на внутренней и внешней поверхностях чаш. Их декор и эпиграфика публикуются издавна и на разных языках [1, с. 400–417; 2, с. 91–120; 3, с. 64–66; 4; 5, с. 601–609; 6, с. 64–65; 7, с. 57–59; 8, с. 138, 248–249, 305, 334 и др.].
В 1967-68 годах Ташкентской археологической экспедицией Института археологии Академии наук Узбекистана под руководством М.И. Филанович (с участием Л.Л. Ртвеладзе) в Старом городе Ташкента обнаружен комплекс керамики XV–XVI вв. [9, с. 86–89]. Текст одной из них публикуется здесь впервые (рис. 1).
В упомянутых публикациях исследователи в большей степени старались установить имена мастеров и места производств (центры по изготовлению керамики), выявить форму и степень влияния китайских технологий изготовления (материалы, способы обжига) и т.п. Одновременно констатировались факты наличия надписей на этой посуде, которые представляют собой фрагменты стихов и которые переводятся на разные языки. Полного исследования текстов на этой посуде не отмечено. Идентификация авторов стихов на этой посуде, другие формы анализа имеющихся текстов, насколько известно, не проводились. Между тем, как выяснилось, значительная часть опубликованных стихов и их фрагментов на парадной посуде джучидского и особенно тимуридского времени чаще всего представляет собой фрагменты стихов мистического содержания, написанные известными суфийскими поэтами. Без попыток интерпретации культурологических или социальных контекстов эти тексты на посуде остаются почти «мертвыми».
Названные выше упущения определили цель настоящей статьи – попытаться осмыслить текстологические, социальные и культурологические контексты найденных комплексов керамики (в том числе и неопубликованных), имея в виду, что по ряду признаков эта посуда явно предназначалась как для зажиточных сословий, так и для групп населения со средним достатком. Мы предлагаем более обширный (чем это сделано раньше) историко-культурный анализ имеющихся надписей на группе парадной посуды указанного времени. Что касается методов исследований, мы исходим из того, что «материальная культура и общество взаимно дополняют друг друга в рамках исторически и культурно специфичных наборов идей, верований и значений (артефактов)» [9, с. 8–9]. Учитывая, что тексты на упомянутой керамике написаны доступными почерками, мы опираемся на методы выявления культурной коммуникации условных объекта и субъекта надписи, отражающей идеологию того, кто их написал и отражал духовные запросы той аудитории, для которой предназначалась эта посуда с эпиграфикой, имея в виду культурную рефлексию человека, приобретающего предмет не только для своих нужд или как предмет роскоши, но отвечающего его культурному запросу. Следовательно, тексты на посуде следует рассматривать как одну из форм культурных и социальных маркеров эпохи.
Надписи. Чтения, переводы, комментарии
Опубликованные к настоящему времени образцы бытовой керамики XV в. с глазурованным покрытием позволяют разделить их на две большие группы: с росписью кобальтом по белому фону под бесцветной глазурью (подражания китайскому способу декорации); с росписью марганцем под бирюзовой, зеленой или голубой прозрачной глазурью (подробное описание см. в упомянутой литературе). По ряду признаков (прежде всего, декоративные особенности), можно заключить, что эта группа бытовой керамики была предназначена для массового, однако, достаточно зажиточного потребителя.
К первой группе относятся фрагменты упомянутой чаши, найденные в старом Ташкенте (рис. 1.). Внутри нее по кругу оставлена надпись курсивным насхом (диаметр 28 см)1, с регулярно расставленными диакритическими точками. Текст вполне читаемый, но образцом художественной каллиграфии эта надпись не является. На фрагменте сохранилось два последних слова одной из миср (строф) и полная мисра, которая, последняя в этом руба‘и (рис. 1). Сохранившаяся часть текста:
... [ﺑ]وی منست / و آتش بجهان کین خوی منست
… мой дух // А огонь в мире, который подобен моему [мятежному] нраву.
В результате поиска похожих стихов выяснилось, что на чашу нанесена несколько сокращенная версия бейта, автором которого считается знаменитый поэт и мистик Абу Са‘ид Абу-л-Хайр Майхани/Мейхани (967–1049). Правда, в версии стихов на чаше имеются некоторые сокращения. Полная версия руба‘и, которая, очевидно, была написана на чаше, выглядит следующим образом:
از گل طبقی نهاده کین روی منست / وز شب گَرَهی فگنده کین موی منست
صد نافه بباد داده کین بوی منست / و آتش بجهان در زده کین خوی منست
В цветах, [нарисованных] на поверхности чаши, проглядывает мой лик,
А в темноту кувшина словно брошен мой [черный] волосА.
Да будет сотня преимуществ [миру], ибо повсюду мой дух,
А огонь стучится в дверь мира, ибо в нем мой [мятежный] нрав
Комментарий: А). Во второй строке слово «گرهی» прочитано с огласовками «фатха» над первыми двумя буквами (прилаг. от слова «گَرَه» – кувшин). Возможно чтение с огласовками «кясра» (прилаг. от слова گِرِه – узел, сплетение и т.п.). Тогда перевод может выглядеть так: «С ночи сброшен мрак [темноты] – это мой [черный] волос».
Руба‘и опубликовано в знаменитом сборнике персидской поэзии «Ганджур»2. Как сказано, в последней мисре на чаше пропущена одна фраза «در زده» (стучится в дверь), что не сильно изменило смысл, однако, исказило оригинальный размер (вазн) строфы. Какие изменения внес гончар в утраченные строфы остается загадкой.
Подобные случаи, когда в «эпиграфических вариантах» известных текстов пропускались слова, либо чаще заменялись на синонимы – явление довольно частое. Это, скорее всего, свидетельствует о том, что каллиграфы или художники помнили и цитировали тексты (в т.ч. поэзию) наизусть, возможно услышанную на одном из поэтических собраний или во время иных групповых коммуникаций, где газель, видимо, тоже цитировалась на память с некоторыми сокращениями, с целью немного упростить их смысл. Отсюда многочисленные вариации такого рода популярной поэзии, в том числе и в рукописных фиксациях подобных произведений.
Мистическая поэзия Абу-Са‘ида Мейхани оказала серьезное влияние на последующее развитие суфийской поэзии на персидском языке. Особенно часто в поэтической среде обыгрывалась его идея о том, что мистик, достигший особого мистического озарения (ишрак) способен «сжечь мир», как в приведенном выше руба‘и. Эта идея и формы метафор оказались востребованными в среде поэтов и вызвали ряд талантливых подражаний именитых стихотворцев3. В первую очередь речь идет об изложениях «особого состояния» (хал) мистика, у которого его страстная любовь к Всевышнему невольно порождает чувства собственной исключительности; отсюда ощущение способности перевернуть мир своей страстной мистической любовью.
Не меньшую популярность поэзия Мейхани обрела в разных стратах общества, благодаря ярким образам и сравнениям в его стихах и легкости в запоминании. Его руба‘и и парные бейты быстро разошлись на цитаты, поскольку, сохраняя свой мистический смысл (как выражение любви к Богу), они могли быть приложимы и к вполне земным чувствам [11, c. 456–57].
Что касается выбора фрагмента этих стихов в качестве части декора на представленной чаше, то, видимо, не стоит абсолютизировать именно мистический контекст четверостишия, которое, в отрыве от всей газели, может иметь вполне «земное», лирическое звучание. Альтернативно выбор «сюжета надписи» можно, например, объяснить тем, что гончар обратил внимание на удачное сочетание в первой строфе слова «табак» (чаша), а во второй слова «гарах» (кувшин, глубокая чаша), что вполне связывает сюжет надписи с самим предметом. По-видимому, гончар счел эти обстоятельства достаточными, чтобы поместить это руба‘и на своем замечательном творении.
Географически и хронологически наиболее близкой находкой к описанному выше комплексу тимуридской посуды можно считать фрагмент чаши, обнаруженный на раскопках бани XIV–XV вв. на городище Отрар [6, с. 121–122]. Автор этой части книги (К.М. Байпаков) не привел оригинальный персидский текст, ограничившись переводом В. Шуховцова и кратким комментарием: «[По желанию] твоему да исполнятся все твои дела, / Да будет Бог хранителем твоего престола. … / Вечер наступил. Ты мой возлюбленный в мире …». К.М. Байпаков (либо, скорее всего, переводчик) счёл, что стихи «представляют собой фольклорную благожелательную надпись (I бейт) и любовную лирику (II бейт), возможно в суфийском плане, отождествляющем возлюбленного с Богом» [там же]. Аналогий сосуду и текстам не приведено. Не было также попытки обнаружить автора стихов.
Приведем описание и уточненное чтение оригинального персидского текста чаши, а также более точный перевод с подробными комментариями. Палеография надписи сходна с надписями на вышеописанной посуде. Почерк – скорописный курсив, с достаточно регулярно расставленными диакритическими точками, что позволяет уверенно читать текст (рис. 2). Однако и в этом случае нельзя сказать, что это образец художественной каллиграфии. В тексте есть утраты. Сохранились одна полная и три фрагмента миср (строф). В конце полной мисры приписана фраза: «تام شد» («завершена [надпись]»)4. Ремарка ясно разделяет завершение и начало надписи по ободку чаши. Судя по вычисленному публикаторами диаметру чаши (27 см.), в утраченное место вполне мог вместиться еще один бейт.
Содержание завершающей фразы означает, что следующая мисра – начальная во всей надписи (первый бейт текста). Мы установили, что этот бейт принадлежит известному персидскому автору Авхад ад-дину Али ибн Махмуду Анвари (1126–1189 или 1191)5. Что касается последних двух миср на чаше, то их автора точно определить не удалось. Хотя эта же строфа встречается в надписи на металлической чаше XVI в., хранящейся в музее Лувра6. Авторы описания на сайте музея, ссылаясь на известного ираниста Меликян-Ширвани, утверждают, что эта мисра принадлежит перу иранского поэта Абу Мансура Мухаммада ибн Ахмада Дакики (вторая половина Х в.). Мне не удалось найти этот бейт в наиболее полном издании Дакики, вошедшем в упомянутый сборник «Ганджур».
Анонимный комментатор «Пятой тетради» Мавлана Джалала ад-дина Руми (1207–1273) добавил свои комментарии и дополнения в виде четырех бейтов. Комментатор пишет, что приведенные им три бейта возможно (!) принадлежат перу Дакики, Фирдоуси и Саади Ширази7. Именно в этом комментарии обнаружен последний бейт, приведенный на чаше из Отрара, который, предположительно, принадлежит перу Дакики. Несмотря на то, что безымянный комментатор сомневается в авторстве этих стихов (то есть в принадлежности их перу Дакики), важна его ремарка о том, что стихи «часто встречаются на посуде тимуридского времени» (к сожалению, точных ссылок на литературу или музейные фонды комментатор не привел). И действительно, кроме упомянутого аналога, хранящегося в Лувре, эта надпись встречается на тимуридской посуде, хранящейся в музее «Victoria & Albert» [12, с. 74; инв. № 374–1897] и в музее Эрмитаж [7, с. 57-59; инв. № IR-2144].
Таким образом, последнее двустишие отрарской чаши мы часто видим на всех упомянутых чашах и иной посуде золотоордынской, тимуридской и затем сафавидской эпох. Обычно это двустишие сочеталось с бейтом, который принадлежит Саади Ширази8. В отрарской чаше это второй бейт. Исходя из этих аналогов, полный текст на чаше из Отрара, очевидно, должен выглядеть следующим образом9:
یارم تویی به عالم یار [دگر ندا]رم تا در تنم [بود جان دل از تو برندارم
جهانت بکام و فلک یار باد / جهان آفرینت نگه دار باد
بکام] تو بادا همه کار تو / خداوند بادا نگه دار تو
تام شد
Ты мой друг и у меня [нет другого] друга в этом мире, кроме тебя,
Покуда в моем теле [есть душа и сердце, я не откажусь от тебя
Пусть твой мир соответствует твоим желаниям и воле неба
Да будет Вселенная твоим защитником!]
Да будут соответствовать твоим желаниям все дела твои,
Да будет Бог хранителем твоим!
Завершен (текст).
Возьмем другой текст на чаше (рис. 3), опубликованной замечательным востоковедом А.А. Ивановым (1929–2020) [3, с. 64–65]. В ней автор прочитал и перевел надписи на чаше из коллекции Эрмитажа, найденной в Кубачи10.
صحن سرای دیده بشستم ولی چه سود
کین گوشه نیست درخور خیل خیال تو
این طبق در مشهد باتمام رسید سنه 887
Перевод (А. Иванова):
Двор обители глаза я омыл [слезою], но что за польза [от этого],
Это ведь не место, достойное сонма грез о тебе.
Это блюдо закончено в Машхаде в году 878 [1473/74]11.
Другую чашу с таким же текстом (но с другим узором), изготовленную в 848 (1444/45) году в Мешхеде, опубликовал А. Лейн [17, с. 34, илл. 20]. Исследователь не привел текста и перевода, хотя текст написан таким же курсивным почерком. Это же двустишие представлено на парадной чаше тимуридского времени с датой 1468/69 гг. (хранится в «Национальном музее Искусства Востока», Рим) [4, с. 134]. Автор полагает, что эта чаша произведена в Нишапуре [4, с. 210, илл. 52]. Повторив публикацию чаши из Эрмитажа, Л. Голомбек привела английский перевод А. Иванова [4, с. 134, 215, илл. 54].
В контексте наших задач важно будет сделать следующие дополнения к этим публикациям и особенно к переводу надписей на этой чаше, найденной в Кубачи. Во-первых, текст на ней написан тем же простым курсивом, какой мы видим на ташкентской, отрарской и других упомянутых выше чашах. Иными словами, почерк не каллиграфический. Во-вторых, нам удалось установить, что это двустишие на кубачинской чаше (Эрмитаж) принадлежит перу знаменитого поэта Шамс ад-дина Мухаммада Хафиза Ширази (1315–1389)12. Это второй бейт первого руба‘и газели Хафиза (первый бейт: ای آفتاب آینه دار جمال تو / مشک سیاه مجمره گردان خال تو). Соответственно, полный перевод руба‘и выглядел бы иначе: «Даже Солнце [стало] зеркалом Твоей красоты, / Темный мускус курильницы окутал родинку Твою / [Чтобы узреть ее] я омыл [слезами] простор очей своих, но напрасно, / Ибо нет уголка [на Земле] достойного для грез о Тебе»13.
Газель Хафиза – описание духовных мук и отчаяния суфия, который мучительно старается постичь Истинного Бога («узреть непостижимую красоту божественного лика»). Газель рифмована
на вариации местоимения «تو / Ты, Твой, Тебя», под которым подразумевается Бог, сокрытый лик которого (согласно газели) «ярче и ослепительнее Солнца», а попытка постичь «Его красоту» приводит «путника» (суфия) к духовным мукам.
Однако один (второй) бейт, приведенный на упомянутых чашах, оказывается вырванным из этого мистического контекста и обретает, скорее, «мирское» (лирическое, личное) звучание, то есть в известном смысле обыденное значение (в той мере, насколько такое определение приложимо к лирической поэзии). Именно таким оказался перевод А.А. Иванова. Иными словами, бейт, оторванный от смысла четверостишия и в целом от идеи газели, оказывается свободным от мистического символизма, так близкого Хафизу.
Первый публикатор этого текста А.А. Иванов не пытался осмыслить подобные контексты, сосредоточившись на описании такого рода посуды, как части «большой группы иранской керамики с элементами подражания китайскому фарфору». Исследователь обратился к некоторым письменным источникам, в которых упоминаются гончары Мешхеда, Нишапура и Герата [3, с. 64–65]14. В частности, А. Иванов пользовался персидским переводом знаменитой антологии поэтов Алишера Навои / Навайи «Маджалис ан-нафаис» (Собрание редкостей). В целом, перевод А. Иванова этого места произведения Навои изобилует ошибками. Приведем уточненный перевод из оригинала, добавив новые детали. Наиболее полную и интересную информацию Навои приводит о поэте Мавлана Мани. Он пишет:
«Он из Мешхеда. Красивый, остроумный и миловидный юноша. Его отец был замечательным мастером посуды (косагир), производил фаянсовую посуду (чинни). А его младший брат (иниси15) так расписывал (эту) посуду (накш килурким), что даже в Китае (Чин-у-Хито) такое не могли изготовить. Он [Мани] стеснялся (حرفة/хирфа) ремесла их обоих и относился к ним хуже, чем к своему рабу или к своему пажу. Ибо сам он обладал красивым почерком и прекрасной речью, и что бы он ни делал, это было достойно (его талантов)» [13, 77–78].
Последнее замечание Навои требует пояснения. Из контекста видно, что Мавлана Мани стеснялся своего отца и дяди главным образом потому, что те не обладали каллиграфическим почерком, хотя они изготовляли и, по оценкам Навои, великолепно расписывали посуду. Эта ремарка вполне приложима к описанной выше и похожей посуде XV в.: будучи образцами замечательного художественного ремесла, почерки их надписей очень посредственные, не обладающие качествами художественной каллиграфии16. По крайней мере, трудно назвать их образцами выдающейся каллиграфии, которую мы видим на дворцовой посуде того же или близкого времени (см. упомянутую выше библиографию). Другой контекст «презрения» Мавлана Мани к своему отцу и дяде может быть истолкован как раз в том смысле, что оба они цитировали «урезанные» тексты из мистической (суфийской) поэзии, превратив ее в обычную (реалистичную) любовную лирику, как раз пригодную для «дарственных надписей» на посуде, рассчитанной на рынок. Иными словами, такие сокращенные цитаты теряли свой мистический смысл, что, видимо, сильно раздражало Мавлана Мани. Тем более, сам Мани (по словам Навои) писал стихи в явно мистическом жанре [13, с. 78].
Иногда на чашах писались двустишия, заимствованные, чаще всего, из знаменитой «Поэмы о яствах» Абу Исхака Халладжа Ширази (ابو اسحاق حلّاج شیرازی. دیوان اطعام)17, как, например, бейт на второй чаше из фондов музея Эрмитаж, также найденной в Кубачи (инв. № VG 2322. Рис. 4):
در مزعفر بکمانم که چه وصفش کویم / آنکه حلوای عسل دارد ازو استظهار
Под ремнем у меня худой живот, что там говорить,
А у тех, кто есть медовую халву – у них все проявляется
Таким образом, тексты преимущественно украшали парадную столовую посуду, изготовление которой технологически сложно (поиск пригодного сырья, как минимум – двукратный обжиг, и пр.). Поэтому можно сказать, что ее стоимость была довольно высока. Следовательно, она предназначалась для достаточно зажиточных сословий населения. Однако по качеству рисунка, в каллиграфии надписей, яркости красок и прочим деталям она уступала дворцовой посуде того же времени [некоторые образцы: 14, с. 582; 15, с. 452–453].
Что касается полихромной дворцовой посуды с более профессиональной каллиграфией, то знаменитый историк Гияс ад-дин Хондамир упоминает о ее изготовителях. Например, о мастере Хаджжи-Мухаммаде, который потратил много времени и усилий, чтобы его посуда стала «подобно китайской». Тем не менее, по цвету и прозрачности она явно уступала китайским оригиналам [цитируется по: 4, с. 133]. Очевидно, речь идет об элитарной, высококачественной керамике, изготовление которой требовало технологических экспериментов. Такая посуда украшалась более профессиональной каллиграфией. Все это повышало цену посуды, которая не всегда была доступна сословиям со средним достатком.
Очевидно, что как альтернатива появилась описанная выше посуда, которая уступала дворцовой по качеству декора, материала, и отличалась небрежной (непрофессиональной) каллиграфией надписей. Похоже, что услуги каллиграфов обходились дорого, и это сказывалось на цене посуды. Судя по опубликованным образцам, в большинстве текстов на этой посуде отмечены признаки скорописи, пропуски слов, замены некоторых слов на синонимы. Все это свидетельствует о том, что художники знали эту поэзию наизусть. По крайней мере, мастер, видимо, предполагал, что его своеобразное послание на керамике будет востребовано покупателями посуды. То же самое можно сказать и о текстах на заказ. Несмотря на небрежность стиля надписей на этой группе посуды, их тексты чаще всего написаны вполне доступными видами курсивных почерков, с достаточно регулярно расставленными диакритическими точками, что облегчало чтение, либо его «угадывание», если читающий был знаком с нанесенными на сосуд стихами.
Заключение
Наше исследование вновь подтверждает, что важным культурным маркером средневековой посуды является эпиграфика. Что касается содержания исследованных нами надписей, то выбор представленных и похожих фрагментов текстов, видимо, зависел от конкретного заказа или запроса рынка. Фиксируя факт, что в качестве цитат (фрагментов) на посуде выбиралась именно суфийская поэзия, мы должны обратить внимание и на ряд других обстоятельств. Во-первых, тексты на описанной посуде подбирались и воспринимались в отрыве от их суфийского содержания (и едва ли не вопреки ему). Тогда смысл надписей действительно оказывался утилитарным, например, как поэтическая само-презентация мастера (как в случае с ташкентской чашей), либо как дарственное благопожелание, непременно с комплементарным подтекстом, однако в рамках знакомых для условного «потребителя» культурных (литературных) традиций, в контексте его восприятия. Следовательно, рыночный и утилитарный интерес гончаров доминировал, хотя оставался в рамках культурных кодов эпохи. Понятно, что посудная керамика, тем более парадная, это не вся культура. Но бесспорно, что она была и остается главным маркером массовой культуры (от парадной и до обычной бытовой), оставаясь, однако, зеркалом идеологии того сословия, которое ее приобретало.
Во-вторых, бейты, выбранные для посуды, будучи оторванными от мистического (метафорического) контекста руба‘и или газелей, обретают обыденный смысл, теряя свой суфийский контекст18. Они становились обычными благопожеланиями или выражениями земных (физиологических) чувств, например, по отношению к тем, кому дарилась посуда. Даже любовная лирика газелей с очевидным мистическим контекстом прилагалась скорее к физиологическим проявлениям любовной страсти. Правда, исследователи отмечают рост популярности идей мистицизма в литературе и изобразительном искусстве XV в. на фоне дискурса суфизма, как части элитарной культуры [18, с. 1–18; 19, с. 56–79]. Наше наблюдение отнюдь не противоречит такого рода заключениям, поскольку в приведенных случаях речь идет о культурных запросах страт со средней зажиточностью, в среде которых мистическая поэзия толковалась двояко.
Обнаруживаемая посуда (или ее фрагменты), как правило, остается самым информативным и самым «материальным» источником наших знаний о разных сферах жизни социума, в том числе
и о духовных запросах разных его страт. Особенно когда на ней есть узоры или надписи. Желательно не только описать или классифицировать ее. Необходимо буквально раскодировать сюжеты узора, или более глубоко понять и оценить тексты на этой посуде. Это особенно важно, если иметь в виду относительную малочисленность дошедших до нас документов или письменных свидетельств, имеющих отношение к ремесленным (керамическим) центрам или семейным гильдиям.
Благодарность. Искренне благодарен М.И. Филанович за предоставленную возможность опубликовать фото фрагмента чаши из Старого Ташкента, а также Дж.Я. и С.Р. Ильясовым за помощь в подборе материала и при написании этой статьи.
Acknowledgements. I would like to express my sincere gratitude to M.I. Filanovich for providing the opportunity to publish a photo of a fragment of a bowl from Old Tashkent. I also extend my thanks to J.Ya. and S.R. Ilyasov for their assistance in selecting the material and writing this article.
1. По информации археолога М.И. Филанович, в начале 1970 гг. текст был прочитан О.Д. Чехович. Этот текст не найден.
2. Абу Са‘ид Мейхани. Сборник стихов. Руба‘и № 104. Комментарий // Ganjoor Library (Библиотека персидской поэзии). Электронный ресурс. Доступно по ссылке: https://ganjoor.net/abusaeed/robaee-aa/sh104. (последнее посещение 10.02.2024).
3. Там же, комментарии.
4. Автор чтения В. Шуховцев счел, что эта фраза – часть мисры, прочитав ее некорректно как «شام شد» – «Вечер наступил» (вместо «تام شد») и включил её в перевод мисры. Между тем, над горизонтальным росчерком перед буквой «алиф» ясно видны две диакритические точки (не три!).
5. Авхад ад-дин Анвари. Газели. Газель № 205 // Ganjoor Library (Библиотека персидской поэзии). Электронный ресурс. Доступно по ссылке: https://ganjoor.net/anvari/divan-anvari/ghazala/sh205 (последнее посещение 14.02.2024).
6. Louvre. Département des Arts de l’Islam. Plat (Vase, récipient). Numéro principal: MAO 2282. Электронный ресурс. Доступно по ссылке: https://collections.louvre.fr/en/ark:/53355/cl010319864 (последнее посещение 10.02.2024).
7. Джалал ад-дин Руми. Сборник стихов. «Пятая тетрадь» // Ganjoor Library (Библиотека персидской поэзии). Комментарий 12. Электронный ресурс. Доступно по ссылке: https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar5/ sh103#comment-19938 (последнее посещение – 12.02.2024).
8. Саади Ширази. «Бустан». Бейт 35 // Ganjoor Servise / Persian Literature. (Библиотека персоязычной литературы «Ганджур»). Доступно по ссылке: https://ganjoor.net/saadi/boostan/bab9/sh7/8 (последнее посещение – 20.03.2023). С меньшей долей вероятности можно допустить, что в утраченном фрагменте отрарской чаши могло быть продолжение руба‘и Анвари: «دل برندارم از تو وز دل سخن نگویم // زان دل سخن چه گویم کز وی خبر ندارم» (Нет у меня друга, кроме Тебя, и потому никому не говорю от сердца, // Но что я могу сказать Тебе от сердца, если ничего не знаю о Тебе?).
9. Утраченные части текста заключены в прямоугольные скобки. Ритм стихов неустойчив.
10. Статья содержит замечательный обзор керамического производства Мешхеда по источникам [3].
11. Ритм: مفعول فاعلات مفاعیل فاعیل. Позже А. Иванов повторил свою публикацию на английском языке и предложил такой перевод двустишья: The Courtyard of the eye’s house I washed (with a tear), but what is use / It is not the place suitable for all my dreams about you [4, с. 134].
12. Шамс ад-дин Мухаммад Хафиз Ширази. Газели. № 408 // Ganjoor Library (Библиотека персидской поэзии). Электронный ресурс. Доступно по ссылке: https://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh408. (последнее посещение – 10.03.2024).
13. Возможны вариации перевода, в зависимости от понимания архаичных слов и суфийского подтекста.
14. Л. Голомбек так же приводит имена некоторых мастеров, которые попали на страиницы источников [4, с. 23–24].
15. В переводе А. Иванова неточно – «его отец и мать». Перевод остального текста у А. Иванова также неточен [3, с. 64]. Более точен, хотя краток М. Кейвани [16, с. 80–82].
16. Еще один пример – схожий с отрарской чашей по цветовой гамме и технике декора кувшин, найденный во время раскопок в Иерусалиме и украшенный стихами Омара Хайама [20].
17. https://fa.wikisource.org/wiki/ دیوان_اطعمه/دیباچه (последнее посещение – 10.03.2024).
18. Проще было в случаях, когда конкретный фрагмент заимствовался из эпических произведений, вроде «Шах-наме» Фирдоуси, например, с описаниями застолий.
Bakhtiyar Miraimovich Babajanov
National Center of Archeology of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan; Institute of Oriental Studies named after R. Suleimenov of the Science Committee Ministry of Science and Higher Education, Republic of Kazakhstan, Almaty, Kazakhstan
Author for correspondence.
Email: Azamat.99.2428.2@gmail.com
ORCID iD: 0009-0001-6718-9819
Doctor of Historical Sciences, Chief Researcher;
Invited specialist as chief researcher
- Pugachenkova GA. Glazed ceramics of Nisa XIV-XV centuries. Proceedings of the South Turkmen archaeological complex expedition. Vol. 1. Ashgabat, 1949: 400-417. (In Russ)
- Pugachenkova GA. Samarkand ceramics of the 15th century. Proceedings of the Central Asian State University, XI. 1950: 91-120. (In Russ)
- Ivanov AA. Faience dish of the 15th century from Mashhad. Communications of the State Hermitage. Vol. XLV. Leningrad 1980: 64-66. (In Russ)
- Golombek L., Mason R., Gauvin B. Tamerlane’s Tableware. A new Approach to the Chinoiserie Ceramics of Fifteenth and Sixteens-Century Iran. Ontario: Royal Ontario Museum. 1996.
- Grube, Ernst. J. Notes on the Decorative Arts of the Timurid Period. III. On a type of Timurid Pottery Design: The Flying-Bird-Pattern. In: Oriento Moderno. Nuova serie, Anno 15 (76), Nr. 2 (La Civiltà Timuride Come Fenomeno Internazionale. Vol. II. Letteratura — Arte), 1996: 601-609.
- Akishev KA., Baypakov KM., Erzakovich LB. Otrar in the XIII-XV centuries. Alma-Ata: “Science” of the KazSSR, 1987. (In Russ)
- Kondratyeva FA. A dish of the Timurid period with a depiction of a landscape. In: Collection of the State Hermitage. Vol. 20. Leningrad, 1961: 57-59. (In Russ)
- Franke, Ute & Urban Thomas. Excavations end Explorations in Herat City. Ute Franke (ed.) “Ancient Herat”, vol. 2. Berlin: Staatliche Museen Zu Berlin. 2017.
- Varkhotova D.P. Artistic ceramics of the 15th - early 16th centuries. from Tashkent. Social Sciences of Uzbekistan, Vol. 8-9. 1969: 86-89. (In Russ)
- Hodder, Ian & Hutson, Scott. Reading the past. Current approaches to interpretation in archaeology. Cambridge: Cambridge University Press, 2003 (3rd edn.): 1-28.
- Browne EG. A Literary History of Persia. From the Earliest Time until Firdawsi. Vol. 1. Routlege, 1999 (New ed.).
- Crowe Y. Persia and China. Safavid Blue and White Ceramic in the Victoria & Albert Museum. 1501-1738. La Borie. 2002.
- Navoiy Alisher. Complete works of 20 volumes. Volume 13 Majolis un-nafois. Tashkent: Fan, 1996. (In Uzbek)
- Golombek L. Timurid Potters Abroad // Oriente Moderno, Nuova serie, Anno 15 (76), Nr. 2. La civiltà Timuride come fenomeno internazionale. Volume II (Letteratura — Arte). 1996: 577-586.
- Watson O. Ceramic from the Islamic Lands. London: Thames & Hudson. 2004.
- Keyvany, M. Artisans and Guild Life in the later Safavid period: Contributions to the social-economic history of Persia. Islamkundliche Untersuchungen, 65. Berlin, 1982.
- Lane A. Later Islamic Pottery Persia, Syria, Egypt, Turkey. London: Faber & Faber. 1957.
- Subtelny, Maria Eva. A Taste for the Intricate: The Persian Poetry of the Late Timurid Period. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. Vol. 136, No. 1. 1986: 56-79.
- Subtelny, Maria Eva. Sufi orthopraxis: visual language and verbal imagery in medieval Afghanistan. Word & Image. A Journal of Verbal/Visual Enquiry: 1-18.
- Avner R. & Donald & Ariel T. & Rubanovich J. Jerusalem, the Old City. Preliminary Report. Excavations and Surveys in Israel. Vol. 124. 2012 (URL: Volume 124 Year 2012 Jerusalem, the Old City, IDF House (hadashot-esi.org.il).
Supplementary files
There are no supplementary files to display.