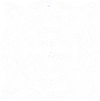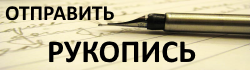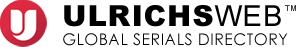«ОТ НЕЗАВИСИМОСТИ К ВОЙНЕ»: АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
- Авторы: Горюшина Е.М., Осмаев А.Д.
- Выпуск: Том 20, № 3 (2024)
- Страницы: 607-620
- URL: https://caucasushistory.ru/2618-6772/article/view/17184
- DOI: https://doi.org/10.32653/CH203607-620
Аннотация
В статье анализируется зарубежная (англоязычная) историография вооруженного конфликта в Чеченской Республике. С этой целью был использован принцип периодизации, который послужил основой для анализа источников, а также позволил разделить исследование на два этапа: к независимости на волне прошлого (1991–1996), от независимости к войне (1999–2009). Осуществлен контент-анализ исторических произведений. Исследование будет способствовать прояснению логики конструирования зарубежной историографии о самом известном постсоветском вооруженном конфликте, информация о котором воссоздается, искажается и используется многими авторами для формирования негативного образа Российской Федерации в прошлом и настоящем. Выявлено, что зарубежные исследователи игнорировали взаимосвязь вооруженного насилия и коллективной памяти, акцентируя внимание на взаимоотношениях республики и федерального центра после распада СССР. Практически вся иностранная историография о вооруженном конфликте в регионе отличается негативной коннотацией, политизирована и содержит оценку взаимоотношений по оси «центр-периферия». Установлено, что иностранные авторы, описавшие 1994–1996 гг., сместили исследовательский фокус на сепаратизм Чечни и ее борьбу за независимость от России с учетом исторического прошлого (начиная с Кавказской войны). Определено, что решающую роль в мобилизации коллективной памяти перед началом вооруженных действий в 1994 г. сыграла массовая депортация 1944 г., к которой обращались практические все иностранные авторы. Изменившаяся международная повестка борьбы с терроризмом после 11 сентября 2001 г. нивелировала в общественном и академическом дискурсе «ичкерийское» прошлое Чечни периода 1991–1999 гг. Зарубежные работы, охватывающие анализ вооруженных действий периода 1999–2009 гг., стали представлять интерес для развития военной отрасли (в частности, в США). Это обусловлено тем, что терроризм вытеснил не только традиционную войну, но даже партизанскую тактику, до этого широко применявшуюся в Чечне. Зарубежные авторы выявили, что с 1999 г. в общественном дискурсе происходит демонизация образа чеченца и превращение его в «моджахеда».
Ключевые слова
В широком понимании коллективная память уже давно стала важным компонентом этнонациональной принадлежности. При этом чувство исторической преемственности и общего наследия обеспечивает сплоченность и идентичность людей внутри социальной группы. Так полагает специалист в области изучения коллективной памяти из Ольстерского университета (Северная Ирландия) К. Макгрэттен. Он подчеркивает, что память не только выполняет функцию увязывания прошлого с настоящим, вписывания в него образа «другого», но и выступает предметом исследований в ряде дисциплин. «Часто эта работа сосредотачивается (скрыто или явно) на конфликтных и вызывающих разногласия процессах, которые в буквальном смысле запускают мобилизацию памяти», − пишет Макгреттен [1, с. 488].
В случае с внутренним вооруженным конфликтом в Чеченской Республике справедливо говорить об «этническом возрождении», при котором идентичность и коллективная память не утратили мобилизационного потенциала, а вкупе с территориальным признаком стали мощным двигателем в борьбе за независимость. Территориальность, привязанность к определенному географическому региону оказывается едва ли не центральным фактором человеческой деятельности и отношений, поскольку территории, как для групп, так и для отдельных лиц, выступают ресурсом обеспечения базовых потребностей (в первую очередь выживание и воспроизводство), и представляют собой важную основу власти.
«Этническое возрождение», о котором открыто заговорили в зарубежной политической науке в конце 1970-х [2] – начале 1980-х гг. [3; 4; 5], коснулось и Северного Кавказа [6]. Особенно это проявилось в Чечено-Ингушетии [7], где с началом перестройки активизировались различные националистические движения [8], но, по мнению авторов статьи, корректнее было бы характеризовать эти движения как национальные. Среди них были также националистически настроенные персоналии и группы.
Иностранные авторы отмечают характерные черты Северного Кавказа, где «обширная северокавказская идентичность была реализована в различных союзах, начиная с войн за независимость Кавказа в XIX в. и заканчивая созданием Северокавказской горной республики в 1918 г.» [9, с. 26]. Причем идентичность рассматривается как нечто общее для всех административных единиц региона, среди которых исключением стала Чечня.
В предыдущих исследованиях авторы этой статьи уже отмечали особенность формирования корпуса историографических источников о внутреннем вооруженном конфликте в Чечне. Он базируется на обширном массиве публицистических материалов по воспоминаниям и политической оценке вооруженных действий в регионе, но одновременно малом количестве академических работ по памяти и ее специфике [10, с.283].
Как правило, зарубежные исследователи игнорировали взаимосвязь вооруженного насилия и коллективной памяти, акцентируя внимание на взаимоотношениях республики и федерального центра после распада СССР. Помимо этого, практически вся иностранная историография о вооруженном конфликте в регионе отличается негативной коннотацией, политизирована и содержит оценку взаимоотношений по оси «центр-периферия». Поэтому анализ зарубежной историографии в данном контексте – зачастую игнорируемая российскими учеными исследовательская задача вследствие высоких рисков политизации текста и нежелания рассмотреть «чеченские войны» сквозь призму зарубежной оптики.
Как предполагают авторы статьи, подобный анализ крайне необходим для современной российской науки, поскольку «прошлое не сохраняется, а реконструируется на основе настоящего» [11, с. 40]. Анализ будет способствовать прояснению логики конструирования зарубежной историографии о самом известном постсоветском вооруженном конфликте, информация о котором воссоздается, искажается и используется многими авторами для формирования негативного образа Российской Федерации в прошлом и настоящем.
Во избежание реферативного стиля изложения авторы данной статьи прибегают к выборочным работам наиболее известных и цитируемых зарубежных авторов, которые не дублируют друг друга, а развивают ключевые представления о вооруженном конфликте в Чечне. С этой целью в статье учтены взгляды и концепции авторов анализируемых исторических произведений, оказавших влияние на последующую интерпретацию событий конфликта в Чечне. При этом ключевым принципом выборки историографических источников послужил принцип периодизации, который сформировал структуру статьи:
- к независимости на волне прошлого (1991–1996)
- от независимости к войне (1999–2009)
Принцип периодизации как методология историографического исследования также позволил разделить статью на два крупных раздела.
К независимости на волне прошлого (1991–1996)
Специфика коллективной памяти современной Чеченской Республики заключается в том, что ее история основана на частично законсервированной и травматической памяти [12] о стигматизации 1944 г. и двух этапах внутреннего вооруженного конфликта 1994–1996 гг. и 1999–2009 гг. В условиях роста национального самосознания, последовавшего за распадом СССР, регион cтал в буквальном смысле «откалываться». Этому способствовала мобилизация «длинной» коллективной памяти чеченцев, состоящей из неоднозначных интерпретаций исторических событий и периодов прошлого: движение под руководством шейха Мансура, Кавказская война, революция 1917 г. и Гражданская война, Горская АССР, советская Чечня (Чечено-Ингушская АССР), Великая Отечественная война, депортация 1944 г. В таком перечне исторических событий и социально-политических кризисов было бы неверным упускать из виду мифы, активно используемые сепаратистами в период 1991–1994 гг.
Как пишет А. Кампана, профессор политологии из Лавальского университета в Квебеке (Канада), Дж. Дудаев после своего избрания в качестве президента в 1991 г. «не только столкнулся с ожесточенным внутренним противодействием, но и повторил российскую мобилизацию, что привело к тому, что чеченское правительство зациклилось на милитаризации» [13].
С точки зрения Кампаны, подобный шаг Дудаева отчасти объясняется исторической ценностью карательного правосудия для чеченцев и использования насилия как оправданного средства восстановления порядка или освобождения от угнетателей. Вероятно, подобные убеждения были сформированы в результате «длинной» коллективной памяти о страданиях и угнетении, которые тем самым наделяют их высокой социальной эффективностью, о чем свидетельствует стремительная мобилизация чеченцев для борьбы с российской (в отдельных зарубежных работах – «русской») армией в 1994 г. Автор уделяет особое внимание роли и функции мифов в подъеме чеченской сепаратистской идеологии.
Однако Кампана значительно упрощает и низводит восприятие постсоветской России до «Дамоклова меча над головами всего чеченского народа» [13, с. 54]. Причем в качестве угнетателей неизбежно воспринималась сначала имперская (во время Кавказской войны), советская (в период вынужденных переселений), а впоследствии и современная Россия. Исследователь заключает: Дудаеву удалось сохранить легитимность своей власти благодаря тому, что постоянно «называл русских угрозой для чеченского народа. Эта стратегия постоянно возрождает трагическую коллективную память и делает русских постоянной опасностью для общества» [13, с. 51]. В данном случае слово «русские» выступает в роли исторической константы, собирательного образа врага, который фигурирует в различные периоды истории и остается неизменным.
Концепция поиска врага и ее поддержание характерно для многих работ, связанных с изучением того или иного вооруженного конфликта. В случае c коллективной памятью чеченцев и ингушей долго врага искать не пришлось, поскольку «давняя память о конфликте с русскими, безусловно, сыграла важную роль в решении многих чеченских боевиков взять в руки оружие и сражаться против исторического «другого» своего народа в 1994–1996 гг.» [14, с. 104].
Профессор исламской истории Массачусетского университета в Дартмуте Б.Г. Уильямс (работавший на ЦРУ), называет отношения между чеченцами и русскими в буквальном смысле кровавыми на протяжении всей истории. Он подчеркивает решающую роль трагической массовой депортации с родины в Центральную Азию, которая оказала «длительное воздействие на коллективную психику чеченцев» [14, с. 104]. Автор более не развивает тезис о коллективной психике, но использует слово «этноцид, которому, по его мнению, подвергся этот народ от рук советского правительства в 1940-х и 1950-х гг.» [14, с. 103]. Именно он, по мнению автора, послужил основным катализатором милитаризации чеченского общества после распада СССР.
Этот же тезис разделяют К. Галл и Т. де Ваал в известной книге (фактически журналистском расследовании) «Чечня – катастрофа на Кавказе» [15]. Авторы в 1998 г. писали, что «выселение в Центральную Азию оставило глубокие раны и сформировало новое поколение чеченцев, чьи бабушки и дедушки умерли пятьдесят лет назад, гораздо более подготовленными к тому, чтобы идти до конца в конфликте с Россией» [15, с. 57]. Все повествование сводится к жестокой борьбе чеченцев за независимость от России, где отягчающими аргументами не в пользу Москвы выступили описанные авторами «разбомбленный современный европейский город, пока его жители прячутся в бункерах; массовые захоронения; матери, прочесывающие холмы в поисках своих пропавших сыновей» [15, с. 57].
В одной из рецензий на книгу Гаал и де Ваал говорится о том, что в ней превосходно представлена историческая справка о регионе и народе Чечни, его долгой истории обретения независимости и многочисленных столкновениях с российскими властями в разные исторические периоды. Именно такой взгляд на события в регионе периода 1991–1996 гг. был востребован в западном обществе. Причем если представители академической среды предпринимали попытки оспорить глубокие исторические корни этого вооруженного конфликта, то журналисты непосредственно с места боевых действий не оставляли ученым ни одного шанса.
Возвращаясь к Б.Г. Уильямсу, отметим, что он не углубляется в причины «этноцида», но прибегает к слову «геноцид», который ставит в кавычках применительно к чеченцам. Автор пишет, что в ходе передачи из поколения в поколение историй о «выбранной травме» (здесь Уильямс делает отсылку к известной работе В. Волкана о трансгенерационной передаче «выбранных травм») [16] происходит определенная мифологизация конкретного события, поскольку оно превращается в часть коллективной памяти.
Автор объясняет подобный механизм обрастания мифами с помощью отсылки к тексту одного из основоположников и идеологов Чеченской Республики Ичкерия (признана террористической организацией и запрещена в России) – З. Яндарбиева. Будучи не только исполняющим обязанности президента самопровозглашённой ЧРИ в 1996–1997 гг., но и драматургом, поэтом и автором книги «Чечения – битва за свободу» [17], Яндарбиев говорит о «геноциде», гибели «сотен тысяч» чеченцев во время насильственной депортации 1944 г. По мнению Уильямса, подобные ретранслируемые истории о массовой резне (термин, зачастую используемый в западных источниках) в итоге стали неотъемлемой частью национальной мифологии.
Профессор сравнительной политологии Лондонской школы экономики Дж. Хьюз указывает на увеличение «интенсивности памяти» вследствие недавно укоренившегося «горького исторического события, в частности, геноцидной депортации 1944 года» [18, c. 20]. Можно предположить, что Хьюз имеет в виду тот же мобилизационный потенциал памяти, о которой речь шла выше. Помимо этого, он делает несколько выводов, согласно которым наследием «колониальной вражды» (между Россией и Кавказом) выступила сталинская «геноцидная депортация чеченцев» [18, c. 20]. Насильственное выселение чеченцев (об ингушах Хьюз не пишет) привело, по мнению ученого, к 100 тысячам смертей и укоренению так называемой исторической памяти о геноциде [18, c. 20].
Впрочем, Хьюз справедливо отмечает, что именно депортация 1944 г. оказалась вплетена в память большинства чеченцев и стала определяющим историческим событием в укреплении чеченской идентичности, выстроенной вокруг сопротивления России и федеральному центру. Автор избегает слова «травматический» и «травма» применительно к опыту насильственного выселения.
Одновременно с этим Хьюз указывает на политическую институционализацию чеченской идентичности. Она оформилась благодаря возвращению депортированных и восстановлению Чечено-Ингушской АССР в разгар политики «десталинизации» в 1957 г.
В контексте мобилизации памяти и ее дальнейшего использования для создания постсоветского образа «воюющего чеченца» Хьюз критически отмечает, что «большинство рассказов о чеченском сопротивлении России после 1991 года преувеличены и мифологизированы» [18, c. 21]. Он ставит под сомнение «горские» (автор выделяет кавычками именно это слово) и клановые (тайповые) узы чеченского общества в условиях вооруженных действий.
При этом Хьюз уделяет незначительное внимание роли депортации в мобилизации коллективной памяти чеченцев в начале 1990-х гг., делая отсылку к другому ученому – Дж. Б. Данлопу. Опубликованная им в 1998 г. книга «Россия противостоит Чечне» представляет собой первый из двух томов о вооруженном конфликте.
В первой книге Данлопа читатель только знакомится с началом вооруженных действий 1994 г. в Чечне. Автор выстраивает таким образом свой исторический обзор самых ранних столкновений между русскими и чеченцами, что, описав их, сразу переходит к взаимоотношениям двух народов
в советский период – наиболее противоречивый. Далее он переходит к «чеченской революции 1991 года», посвящает отдельную главу приходу Дж. Дудаева к власти, последовательно анализируя факторы, оказавшие влияние на формирование его как лидера движения за независимость Чечни. Ссылаясь на чеченского историка Т. Музаева, Данлоп описывает главные цели созданного в ноябре 1990 г. исполкома Чеченского национального съезда, который возглавил Дудаев: «реализация политического суверенитета, достижение возрождения чеченского языка и восстановление культурной и исторической памяти чеченского народа» [19, c. 20].
Автор не просто описывает хронологию событий и противостояния России и Чечни, но рассуждает о строительстве этнократического государства в период правления Дудаева, часто подкрепляя собственные тезисы его высказываниями-цитатами из федеральных газет (он прибегает к многочисленным публицистическим источникам на русском языке).
В последней главе анализируется переговорный процесс между Россией и Чечней в период с 1992 по 1994 г., делается попытка выявить ключевые причины провала в поисках мирного урегулирования конфликта, а в заключении Данлоп пытается извлечь уроки из опыта прошлого, что представляется важным для настоящего исследования. Впрочем, Данлоп рассматривает федеральный центр сквозь призму негативизма, подчеркивая «ошибки русских», «дисбаланс сил» между Москвой и Грозным, которые в конечном счете привели к «завоеванию этого региона Россией» [20, c. 27].
В своих работах Данлоп делает постоянные отсылки к известному историку и крупнейшему израильскому специалисту по истории ислама на Северном Кавказе – М. Гаммеру. В 2000 г. Гаммер подверг критическому анализу сборник эссе под редакцией Б. Фоукса о российско-чеченских отношениях «Россия и Чечня: перманентный кризис», опубликованный в 1998 г. [21].
Израильский автор так начинает свой анализ сборника эссе: «В 1990-х годах, после распада Советского Союза, в Центральной Азии и на Кавказе появились «новые» (то есть новые для западных правительств, ученых и общественности) мусульманские государства. Более того, этот южный пояс бывшего СССР – как внутри Российской Федерации, так и за ее пределами – вскоре превратился в полосу конфликтов и нестабильности. И снова внезапная потребность в экспертах и исследованиях породила огромное количество публикаций, подавляющее большинство из которых стали пустой тратой зеленых лесов Земли, времени и денег читателя» [22, с. 189].
Гаммер убежден в том, что «российско-чеченская война 1994–1996 гг.» не стала исключением. Из множества книг, опубликованных к 2000 г., следует обратить внимание лишь на очень немногие из них. Рецензируемая Гаммером книга «не относится к этому крошечному меньшинству» [22, с. 189]. Он подвергает критике эссе зарубежных авторов, демонстрируя их ошибки в исторических фактах, названиях чеченских населенных пунктов, датах произошедших событий. Подобная критика Гаммером своих коллег подчеркивает дефицит комплексных исследований по обозначенной теме.
Однако автор задается чрезвычайно важным вопросом: как использовать источники, которые заведомо не соответствуют действительности? Один из авторов сборника эссе, П. Сайрен, в работе «Битва за Грозный: российское вторжение в Чечню, декабрь 1994 – декабрь 1996 гг.» подчеркивает эту дилемму: «Пропагандистские усилия с обеих сторон в этом конфликте <…> сделали объективный и точный анализ событий <…> чрезвычайно трудным» [21, с.97].
При этом Сайрен использует преимущественно российские источники наряду с материалами западных СМИ, поскольку иностранные корреспонденты, по крайней мере до начала войны, вещали преимущественно из Москвы. Следовательно – по мнению Гаммера – отражали российскую точку зрения и официальную информацию. Чеченские же источники, опубликованные в Москве или на Украине, отсутствуют в эссе Сайрен. В этом случае Гаммер в своей рецензии настаивает на использовании источников от 1996 г. за авторством З. Яндарбиева (опубликован во Львове), Л. Усманова и У. Лаудаева. Однако Гаммер сам совершает ошибку в фамилии чеченских авторов, поскольку Умалат Лаудаев был первым чеченцем, осветившим в исследовании на русском языке проблемы истории и этнографии чеченского народа еще в 1872 г. В комментариях Гаммер приводит название работы, которой, по его мнению, не достает в арсенале многих зарубежных исследователей вооруженного конфликта в Чечне, – «Чеченцы: история и современность» под редакцией Айдаева Ю. [23].
Также Гаммер справедливо отмечает, что использование другими иностранными исследователями русскоязычных источников периода «первой чеченской» привело к неоднозначной и даже спорной интерпретации прошлого. Он находит у Сайрен «сильно преувеличенную численность чеченских
боевиков и утверждения русских о том, что на стороне Чечни сражалось большое количество иностранных «наемников»» [22, с. 190]. Это может быть связано с тем, что зарубежные авторы не подвергали критике данные, опубликованные в официальных российских источниках, которые могли быть использованы в целях пропаганды или дезинформации.
Также он оспаривает выводы Сайрен о том, население, проживавшее в республике на момент начала боевых действий в 1994 г., было преимущественно сельским и аполитичным. Гаммер рекомендует многим исследователям обратиться к последней Всесоюзной переписи населения 1989 года во избежание подобных выводов. В целом, автор ставит под сомнение выводы многих иностранных исследователей относительно описания первого этапа вооруженного конфликта в Чечне 1994–1996 гг. Это указывает на неоднозначность интерпретации этого периода в зарубежной историографии.
От независимости к войне (1999–2009)
В конце сентября 1999 г. президент РФ издал указ «О мерах по повышению эффективности контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации»1, положивший начало контртеррористической операции (КТО), которую иначе именуют второй чеченской войной, продлившейся до 16 апреля 2009 г. Этому формально предшествовали нападение боевиков Шамиля Басаева и Хаттаба на Дагестан и серия терактов в Буйнакске, Волгодонске и Москве в сентябре 1999 г.
Теракт в США 11 сентября 2001 г. вывел борьбу с терроризмом на международный уровень. Трагедия 11 сентября фактически сняла «международные претензии к России по поводу Чечни» [24, с. 47] и автоматически встроила Россию на какое-то время в международную антитеррористическую коалицию под временным лидерством США. Профессор Дж. Рассел подтверждает этот тезис: чеченский конфликт не только стал самым кровопролитным со времен Второй мировой войны, а после событий 11 сентября 2001 г. еще и оказался линией фронта России в международной «войне с терроризмом» [25].
Можно утверждать, что именно новая международная повестка борьбы с терроризмом нивелировала в общественном дискурсе «ичкерийское» прошлое Чечни периода 1991–1999 гг. Перед зарубежными учеными встала проблема получения информации из зоны конфликта, поскольку Москва стремилась не допускать ошибки прошлого – позволять иностранным журналистам вмешиваться в ход событий на Северном Кавказе. Россия выражала обеспокоенность вследствие «неоднократных нарушений журналистской этики и искажения информации со стороны ряда журналистов»2, напоминая о случаях подтасовки фактов и фальсификации. В качестве примера можно привести разоблачение видеорепортажа из Чечни корреспондентом одного из частных телеканалов ФРГ Ф. Хёфлингом, который был освобожден руководством телеканала от работы3.
В марте 2000 г. федеральный центр признал «определенную долю ответственности за ненормальную ситуацию, сложившуюся в Чеченской Республике в 1996–1999 гг., которую «несут и федеральные органы власти, не принявшие своевременно необходимых мер по возвращению Чеченской Республики в правовое поле Российской Федерации»4. При этом «за период проведения антитеррористической операции Северный Кавказ посетило более 550 иностранных журналистов, некоторые из которых – неоднократно. Многие иностранные журналисты постоянно находятся в Моздоке и участвуют в поездках по региону вместе с направляемыми туда из Москвы группами»5.
Однако после 1999 г. практически вся зарубежная историография сводится к формированию образа России-агрессора. В большинстве исследований этого периода отсутствует историческая подоплека, Дудаев как символ независимости начала 1990-х гг. потерял значимость и был предан забвению (что полностью соответствует формированию «новой» памяти о конфликте), а геноцид чеченского народа не оспаривается иностранными авторами. В зарубежной историографии открыто стали говорить о трансформации образа чеченца-жертвы в чеченца-боевика и угрозы не только для безопасности Российской Федерации, но других государств. Более того, многие авторы, опубликовавшие свои работы о вооруженных действиях 1999–2009 гг., стали полноценными акторами новой политики памяти, в которой действия официальной Москвы привели к созданию жесткой вертикали власти Кадырова и превратили насилие в рутинный элемент повседневности в XXI в. [26; 27; 28].
Зарубежная историография этого периода избегает исторического экскурса, тяготеет к рассмотрению причин насилия и терроризма, все чаще используя исследовательскую оптику в фокусе разработок в области безопасности.
Доктор философских наук Дж. Рассел опубликовал серию работ, где задается вопросом: Россия вела войну с терроризмом или войну террора, намекая на цели и методы, к которым прибегал федеральный центр с 1999 г. Именно в начале XXI в. зарубежные исследователи стали противопоставлять видение событий в Чечне этого периода на Западе официальной позиции Москвы. «Хотя Запад <…> разделял цели своего стратегического партнера, он явно был смущен грубой пропагандой российских властей, направленной на создание негативных стереотипов о чеченцах, а также применением чрезмерной силы и широкомасштабными нарушениями прав человека, приписываемыми федеральным силам» [29, с. 73].
В опубликованной в 2004 г. работе «Моджахеды, мафия, безумцы: восприятие чеченцев русскими во время войн в Чечне 1994–96 и 1999–2001 годов» Рассел утверждал, что взрывы в Москве осенью 1999 г. стали отправной точкой в демонизации чеченцев в качестве исламских фундаменталистов. Он отмечает, что, хотя эта тенденция прослеживалась в обеих «чеченских войнах», ключевым отличием на этот раз стало «изменение отношения российской общественности от враждебности во время первой войны к безоговорочной поддержке во время второй» [29, с. 73]. Очевидно, речь идет о том, что российская общественность в 2000 г. приняла подобную интерпретацию «чеченца-моджахеда» и начала поддерживать силовые действия государства на Северном Кавказе.
Один из рецензентов Рассела пишет о его работе: «Кто-то может возразить, что его очевидное сочувствие чеченцам в их страданиях должно значительно снизить научную ценность его работы» [30]. В своих работах Рассел всячески избегает журналистского освещения «российско-чеченских войн» и террористических актов от первого лица, а также отказывается от исторического экскурса, демонстрирующего «ожесточенность взаимоотношений России и Чечни на протяжении веков» [30], к которому склонны практически все иностранные историографические источники.
Рассел – один из немногих зарубежных авторов, кто анализирует причины вооруженных действий в Чечне.
Опираясь на опыт других конфликтов, Рассел выделяет целую главу «предпринимателям насилия», как русским, так и чеченцам, которые извлекают выгоду из затянувшегося конфликта. Но главным стало то, что Рассел подчеркивает последствия этих «двух жестоких войн, добавившиеся к народной памяти о веках преследований и злоупотреблений; столкновение западной и исламской идеологий; преобладание философий, основанных на принципе «цель оправдывает средства»…» [30].
Директор программы по экстремизму в Университете Джорджа Вашингтона Л. Видино в статье «Арабские иностранные боевики и сакрализация чеченского конфликта» рассуждает о том, что неназванный чеченский лидер делился репортеру «The Washington Post» собственными опасениями по поводу прибытия в Чечню «сотен иностранных моджахедов: «Они нам не нужны, они доставят нам много хлопот, и мы не сможем остановить их» [31]. Это демонстрирует важное значение СМИ для иностранного исследователя.
Профессор сосредотачивает внимание на главном отличии «первой чеченской» от «второй». С его точки зрения, «российские войска вторглись в Чечню, развязав вторую чеченскую войну, характеризующуюся, с одной стороны, неизбирательными российскими атаками, а с другой – террористической тактикой, применяемой иностранными джихадистами» [32]. Это подтверждает тезис об образе России-агрессоре.
При этом автор справедливо отмечает, что до 2000 г. в Чечне не было ни одного теракта, совершенного смертником [33]. После 2000 г., напротив, чеченские террористы-смертники неоднократно совершали нападения. Таким образом, в зарубежной историографии национальность террористов-смертников в России этого периода была прочно зафиксирована [34; 35; 36]. Появился и пол у самых ярких терактов – женский. «Черные вдовы», как называли чеченских террористок-смертниц, 5 июля 2003 г. совершили нападение на рок-фестивале «Крылья»; 31 августа 2004 г. смертница совершила теракт у вестибюля станции «Рижская» в Москве; крупные авиационные катастрофы в результате взрывов смертниц на борту авиалайнеров Ту-154 и Ту-134, произошедших 24 августа 2004 г. На этих деталях останавливаются почти все зарубежные исследователи вооруженного конфликта в Чечне.
Поэтому большинство иностранных исследователей пришли к выводу, что во «вторую чеченскую» терроризм полностью вытеснил не только традиционную войну, но и партизанскую тактику, до этого широко применявшуюся в Чечне.
Американский политолог, государственный деятель П.Дж. Мерфи изложил список причин, которые могут объяснить, почему терроризм вытеснил все же традиционные методы войны в Чечне. Он считает, что чеченцы приняли тактику терроризма, поскольку другие возможности ограничены: «…это недорого и привлекает более крупные иностранные инвестиции; Власть Басаева выросла; а чеченцы стали нетерпеливыми» [37, с. 197]. Мерфи добавляет к этим веским причинам главное обстоятельство, характеризовавшее Чечню первой декады XXI в. – радикальное изменение взглядов террористов благодаря привнесенному в регион извне ваххабизму.
Образ врага, а также природа самого конфликта отныне рассматривались многими боевиками сквозь призму ваххабизма, превратив его в настоящую религиозную войну между добром и злом, Аллахом и неверными [31]. «Вторая чеченская война» получила столь пристальное внимание в экспертной и академической среде, поскольку зарубежные авторы тиражировали тезис о сакрализации этой самой религиозной войны, приписывая насилию не только чеченский след, но и радикальный ислам. Вполне логично, что «когда война принимает подобные очертания и становится сакральной, исчезают все ограничения на применение насилия» [38]. В большинстве случаев американские исследователи концентрировали внимание не столько на чеченских боевиках, сколько на радикальном исламе, представлявшем в тот период мировую угрозу. И в первую очередь – для США.
Впоследствии профессор исламской истории Массачусетского университета Б.Г. Уильямс в 2015 г. опубликовал книгу «Ад в Чечне: российско-чеченские войны, миф об Аль-Каиде и взрывы на Бостонском марафоне», где вновь обратился к травматическому прошлому американцев – теракту 11 сентября 2001 г. Но в его описании эффект этой трагедии минимизируется на фоне потрясшего Америку террористического акта 15 апреля 2013 г. на Бостонском марафоне, «когда виновниками оказались жители США чеченского происхождения» [39].
Спустя десять лет после зарождения полноценного направления в зарубежной историографии по «второй чеченской войне», где, казалось бы, иностранные исследователи стараются изучить и обосновать борьбу с терроризмом с 1999 г., появляется иное направление исследований. Это обусловлено сменой международной политической повестки: радикальный ислам отошел на второй план, став фоновой угрозой, в то время как образ чеченца-ваххабита начал вновь приобретать черты жертвы политического режима современной России. Запад постепенно начал масштабировать врага до самой Российской Федерации.
Профессор Уильямс пишет свою книгу с явной симпатией к чеченскому народу. Аннотация к его книге усиливает это ощущение: «…трагическую историю разрушенной войной родины террористов, в том числе завоевания при царизме и две кровопролитные войны с постсоветской Россией, которые привели к возвышению Владимира Путина, – показывая, как конфликт там повлиял на рост самой смертоносной доморощенной террористической сети в Европе» [39]. Примечательно, что Бостон – родной город Уильямса, и книга «Ад в Чечне…» стала его попыткой раскрыть глубинные связи между этим богатым американским мегаполисом и отдаленной зоной конфликта на Северном Кавказе, где когда-то жили чеченцы Царнаевы. «Ад действительно становится понятен, когда Уильямс рассказывает о судьбе чеченцев, начиная с ранней советской эпохи», – так отзывается лондонская «Таймс» о книге Уильямса.
Вероятно, читатели «Таймс» приняли за константу повествование Уильямса, но в нашем исследовании важно обозначить: автор явно преувеличивает, излагая историю «террористической кампании чеченцев в России», изо всех сил стараясь увязать чеченцев-террористов с «Аль-Каидой» и радикальным исламом. Это подтверждают другие американские авторы, в частности, Г.М. Хан – американский политолог и геополитический исследователь, специализирующийся на исламе и политике в России и Евразии.
В экспертном докладе для Института стратегических исследований Военного колледжа сухопутных войск (США) за три года до выхода книги «Ад в Чечне…» Хан пишет, что «если кто-то предпочитает сузить проблему до чеченцев, то Брайан Глинн Уильямс заявляет, что после продолжительного путешествия по Афганистану он не смог найти доказательств того, что там когда-либо воевал хотя бы один чеченский боец» [40; 41]. Однако Хан не согласен с этим, приводя в качестве контраргумента размытый тезис, согласно которому «…поступали многочисленные сообщения о том, что чеченцы сражались не только в Афганистане, но и в Ираке против американских войск» [42, с. 23]. Учитывая контекст и год публикации экспертного доклада (2012 г. – прошел год с момента окончания затяжного вооруженного конфликта в Ираке), иного вывода у американских специалистов быть не могло. Впрочем, вопрос присутствия «Аль-Каиды» в Чечне не оставляет зарубежных исследователей и сегодня. Итальянский автор К. Барби предполагает, что освещение участия «Аль-Каиды» в чеченских событиях было специально подчеркнуто российским правительством и средствами массовой информации с целью оправдания милитаризации региона [43].
Гентского университета. Она помещает «День памяти и скорби» как день поминовения в Чечне в центр своего исследования, в котором эта мемориальная дата контрастирует с официальным российским нарративом, сосредоточенном исключительно на победе в Великой Отечественной войне, а не на сталинских репрессиях. Клокер, будучи исследователем в области прав человека, приходит к выводу, что коллективные воспоминания, оспаривающие данный официальный исторический нарратив, «воспринимаются властями как препятствующие построению национальной российской идентичности» [45].
Только в начале второй декады XXI в. в зарубежной историографии начинает формироваться пока еще сравнительно малый корпус источников, посвященных изучению памяти о «чеченских войнах» и роли памяти о депортации 1944 г.
В частности, в 2014 г. появляется первое издание коллективной монографии «Чечня в войне и за ее пределами», где авторы изучают не только вооруженный конфликт в Чечне, но его последствия для локального общества. Однако главным в работе стало то, как вспоминают об этом конфликте годы спустя. Содержание и названия разделов монографии [46] указывает на определенную логику повествования иностранных исследователей: «Следы войны: между памятью и стиранием», «Грозный будто до войны: память и примирение в «виртуальных» и «реальных» постсоветских сообществах», «Вспомнить и забыть в Чечне сегодня: использование Великой Отечественной войны в создании нового исторического нарратива», «Жертвы и герои: память о российских военных потерях в чеченском конфликте», «Восстановление Чечни на стыке политики и экономики».
В этой коллективной работе приняли участие не только зарубежные, но и российские исследователи и эксперты, а также упомянутый ранее Дж. Рассел. Именно благодаря его разделу, как отмечает американский подполковник (в отставке) Р. Шефер, автор книги «Повстанческое движение в Чечне и на Северном Кавказе: от газавата к джихаду» [47], иностранный читатель получит представление о том, какие ценности могут быть приписаны «нелиберальной демократии» Кадырова в Чечне [48]. С учетом предвзятости Шефера и его обращению к хрестоматийным в США миростроительству и демократии, он все же справедливо подмечает, что, хотя в названии коллективной монографии слово «война» занимает центральное место, очень малая часть книги посвящена тщательному обсуждению войны как социально-политического феномена. «Использование точных терминов важно для любой научной дискуссии» [48, с. 182], – заключает он.
Сам того не зная, американский подполковник поднял важный вопрос в области изучения коллективной памяти о чеченских событиях постсоветского периода. Поскольку до сих пор ни в российской, ни в зарубежной историографии не существует общепринятого наименования вооруженных действий 1994–1996 гг. и 1999–2009 гг. в Чечне.
Заключение
Анализ зарубежной историографии о вооруженном конфликте в Чечне позволяет сделать следующие выводы:
- события 1994–1996 г. вызвали «бум» среди иностранных авторов, отдававших предпочтение стилю журналистского расследования, но внесших незначительный вклад в понимание причин и последствий этих событий,
- использование зарубежными исследователями русскоязычных источников периода «первой чеченской» привело к неоднозначной и даже спорной интерпретации прошлого, поскольку тот период был преимущественно освещен в СМИ, а их данные, как правило, не подвергались критике,
- иностранные авторы, описавшие 1994–1996 гг., сместили исследовательский фокус на сепаратизм Чечни и ее борьбу за независимость от России с учетом исторического прошлого (начиная с Кавказской войны),
- решающую роль в мобилизации коллективной памяти перед началом вооруженных действий в 1994 г. сыграла массовая депортация 1944 г., к которой обращались практически все иностранные авторы,
- отдельные иностранные авторы использовали слово «этноцид», «геноцидная депортация» и другие подобные наименования трагических событий 1944 г. с целью объяснения последующей милитаризации чеченского общества с началом перестройки,
- новая международная повестка борьбы с терроризмом после 11 сентября 2001 г. нивелировала в общественном дискурсе «ичкерийское» прошлое Чечни периода 1991–1999 гг.,
- зарубежные работы, охватывающие анализ вооруженных действий периода 1999–2009 гг., стали представлять интерес для развития военной отрасли (в частности, в США),
- иностранные исследователи пришли к выводу, что во «вторую чеченскую» терроризм полностью вытеснил не только традиционную войну, но даже партизанскую тактику, до этого широко применявшуюся в Чечне,
- зарубежные авторы выявили, что с 1999 г. происходит демонизация чеченца и превращение его в «моджахеда»,
- многие исследователи настаивали на росте связей чеченских боевиков с «Аль-Каидой», в результате чего сформировалась дискуссия, где этот тезис неоднократно оспаривался,
- с 2010-х гг. в зарубежной историографии начинает формироваться пока еще сравнительно малый корпус источников, посвященных изучению памяти о «чеченских войнах» и роли памяти о депортации 1944 г.,
- в российской и в зарубежной историографии отсутствует единообразное наименование вооруженных действий 1994–1996 гг. и 1999–2009 гг. в Чечне.
Несмотря на то, что этот вооруженный конфликт перестал привлекать внимание журналистов и большинства зарубежных ученых, влияние боевых действий на формирование коллективной памяти чеченцев все еще не изучено. В равной степени не исследована коллективная память о чеченских событиях за пределами республики, что представляется перспективным направлением в области memory studies.
1. Указ Президента Российской Федерации от 23.09.1999 г. № 1255с «О мерах по повышению эффективности контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации» // URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/14427 (Дата обращения 20.06.2024 г.)
2. Меморандум делегации Федерального Собрания Российской Федерации в Парламентской ассамблее Совета Европы от 28 марта 2000 года относительно реализации Рекомендации ПАСЕ 1444 (2000) «О ситуации в Чеченской Республике» // Официальный сайт Министерства иностранных дел РФ, 04.04.2000 г. URL: https://www.mid.ru/tv/?id=1684746&lang=ru
3. Корреспондент немецкой телекомпании Франк Хефлинг уволен «за ложь и обман» // Lenta.ru, 01.01.2000. URL: https://lenta.ru/news/2000/02/29/film/?ysclid=lxsrrjjalx275106600
4. Меморандум делегации Федерального Собрания Российской Федерации в Парламентской ассамблее Совета Европы от 28 марта 2000 года относительно реализации Рекомендации ПАСЕ 1444 (2000) «О ситуации в Чеченской Республике» // Официальный сайт Министерства иностранных дел РФ, 04.04.2000 г. URL: https://www.mid.ru/tv/?id=1684746&lang=ru
5. Там же.
Евгения Михайловна Горюшина
Центр комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ, Москва, Россия; Институт Китая и современной Азии РАН, Москва, Россия
Email: goryushina@iccaras.ru
ORCID iD: 0000-0003-1800-9890
SPIN-код: 4566-2678
Scopus Author ID: 57210933033
ResearcherId: J-4052-2018
Россия
к.полит.н., научный сотрудник
Центр комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ, Москва, Россия;
egoryushina@hse.ru
ведущий научный сотрудник
Институт Китая и современной Азии РАН, Москва, Россия
Аббаз Догиевич Осмаев
Комплексный научно-исследовательский институт им. Х.И. Ибрагимова РАН
Автор, ответственный за переписку.
Email: osmaev@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-0599-4636
https://independent.academia.edu/%D0%90%D0%B1%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D0%B2
Россия
Звание, должность: Доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры «История древнего мира и средних веков» Чеченского госуниверситета, замдиректора по науке ФГБУН Комплексный научно-исследовательский институт им. Х.И. Ибрагимова РАН
Научные интересы: Чеченская Республика, новейшая история Кавказа, взаимодействие российского федерального центра и регионов
- 1. McGrattan C. Hopkins S. Memory in post-conflict societies: from contention to integration? // Ethnopolitics. 2017. Т. 16. №. 5. Рр. 488–499.
- 2. Gans H.J. Symbolic ethnicity: The future of ethnic groups and cultures in America // Ethnic and racial studies. 1979. Т. 2. №. 1. Рр. 1–20.
- 3. Smith A.D. The ethnic revival. CUP Archive, 1981.
- 4. London School of Economics and Political Science. 256 p.;
- 5. Fishman J.A. et al. The rise and fall of the ethnic revival: Perspectives on language and ethnicity. Berlin: Mouton, 1985. 531 p.
- 6. Treisman D.S. Russia’s “ethnic revival”: the separatist activism of regional leaders in a postcommunist order // World politics. 1997. Т. 49. №. 2. Рр. 212–249.
- 7. Albert C.D. The ethno-violence nexus: measuring ethnic group identity in Chechnya //East European Politics. 2014. Т. 30. №. 1. Рр. 123–146.
- 8. Hajda L. Ethnic politics and ethnic conflict in the USSR and the post-Soviet states // Humboldt Journal of Social Relations. 1993. Рр. 193–278.
- 9. Gökay B. Post-Soviet Disorder: war in Chechnya // The Turkish Yearbook of International Relations. 1994. №. 24. Рр. 25–37.
- 10. Горюшина Е.М. Непримиримые нарративы о «Другом»: изучение памяти о вооруженном конфликте в Чечне // Ideology and Politics Journal. 2020. Т. 16. № 2. С. 279–303.
- 11. Halbwachs M. On collective memory. University of Chicago press, 2020.
- 12. Семенова В.В. Травматическая память как мобилизационный ресурс коллективной идентичности // Социология и общество: глобальные вызовы и региональное развитие [Электронный ресурс]: Материалы IV Очередного Всероссийского социологического конгресса / РОС, ИС РАН, АН РБ, ИСППИ. — М.: РОС, 2012. 1 CD ROM. URL: http://www.isras.ru/files/File/congress2012/part57.pdf. – С. 7798–7818.
- 13. Campana A. Collective memory and violence: The use of myths in the Chechen separatist ideology, 1991–1994 // Journal of Muslim Minority Affairs. 2009. Vol. 29. № 1. Рр. 43–56.
- 14. Williams B.G. Commemorating “the deportation” in post-Soviet Chechnya: the role of memorialization and collective memory in the 1994–1996 and 1999–2000 Russo-Chechen Wars //History & Memory. 2000. Т. 12. №. 1. Рр. 101–134.
- 15. Gall C., De Waal T. Chechnya: calamity in the Caucasus. NYU Press, 1998. 416 р.
- 16. Volkan V.D. Transgenerational transmissions and chosen traumas: An aspect of large-group identity // Group Analysis. 2001. Т. 34. №. 1. Рр. 79–97.
- 17. Iandarbiev Z. Chechniia – bitva za svobodu [Chechnya: The Battle for Freedom]. Lviv. 1996.
- 18. Hughes J. Chechnya: The causes of a protracted post‐soviet conflict // Civil Wars. 2001. Т. 4. №. 4. Рр. 11–48.
- 19. Музаев Т. Чеченская республика: органы власти и политические силы. М.: Информационно-Экспертная Группа Панорама, 1995.
- 20. Dunlop J. B. Russia confronts Chechnya: roots of a separatist conflict. Cambridge University Press, 1998.
- 21. Sirén P. The Battle for Grozny: The Russian Invasion of Chechnya, December 1994–December 1996. In: Russia and Chechnia: the permanent crisis: essays on Russo-Chechen relations. London: Macmillan, 1998.
- 22. Gammer M. Review of Russia and Chechnia: The Permanent Crisis. Essays on Russo-Chechen Relations, by B. Fowkes // Middle Eastern Studies, 36(4), 189–196. http://www.jstor.org/stable/4284122
- 23. Айдаев Ю.А. Чеченцы: история и современность. М.: Мир твоему дому, 1996. – 351 с.
- 24. Победа-70: реконструкция юбилея; под ред. Геннадия Бордюгова. М.: АИРО-XXI, 2015.
- 25. Горюшина Е.М. Политика памяти на Кавказе после 1989 г.: теоретическое обоснование нарратива о войне в Чечне // Электронный научно-образовательный журнал «История». 2021. Т. 12. №. 10 (108).
- 26. Russell J. Ramzan Kadyrov: the indigenous key to success in Putin’s Chechenization strategy? // Nationalities Papers. 2008. Т. 36. №. 4. Рр. 659–687.
- 27. Šmíd T., Mareš M. ‘Kadyrovtsy’: Russia’s counterinsurgency strategy and the wars of paramilitary clans // Journal of Strategic Studies. 2015. Т. 38. №. 5. Рр. 650–677.
- 28. Russell J. Kadyrov’s Chechnya – Template, Test or Trouble for Russia’s Regional Policy? // Russian Regional Politics under Putin and Medvedev. Routledge, 2014. Рр. 149–168.
- 29. Russell J. Mujahedeen, mafia, madmen: Russian perceptions of Chechens during the wars in Chechnya, 1994–96 and 1999–2001 // The Journal of Communist Studies and Transition Politics. 2002. Т. 18. №. 1. Рр. 73–96.
- 30. Elliot I. Review. Chechnya: Russia’s ‘War on Terror’ by John Russell. International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), May 2008, Vol. 84, No. 3, Power and Rules in the Changing Economic Order (May, 2008). Рр. 586–588. URL: https://www.jstor.org/stable/25144845
- 31. Vidino L. The Arab foreign fighters and the sacralization of the Chechen conflict // al Nakhlah. 2006. Т. 2. URL: https://ciaotest.cc.columbia.edu/olj/aln/aln_spring06/aln_spring06e.pdf
- 32. Vidino L. How Chechnya became a breeding ground for terror // Middle East Quarterly. Summer 2005. Pp. 57–66.
- 33. John Reuter. “Chechnya’s Suicide Bombers: Desperate, Devout, or Deceived,” The American Committee for Peace in Chechnya, Sept. 16, 2004.
- 34. Henkin Y. From tactical terrorism to Holy War: the evolution of Chechen terrorism, 1995–2004 // Central Asian Survey. 2006. Т. 25. №. 1–2. Рр. 193–203.
- 35. Speckhard A., Ahkmedova K. The making of a martyr: Chechen suicide terrorism // Studies in conflict & Terrorism. 2006. Т. 29. №. 5. Рр. 429–492.
- 36. Lapidus G.W. Putin’s war on terrorism: Lessons from Chechnya // Post-Soviet Affairs. 2002. Т. 18. №. 1. Рр. 41–48.
- 37. Paul J. Murphy, The Wolves of Islam: Russia and the Faces of Chechen Terror, Washington, D.C.; Brassey’s Inc., 2004. 197.
- 38. Juergensmeyer M. Terror in the mind of God: The global rise of religious violence. Univ of California Press, 2017. Т. 13.
- 39. Williams B.G. Inferno in Сhechnya: The Russian-Chechen wars, the Al qaeda myth, and the Boston Marathon bombings. – University Press of New England, 2015.
- 40. Williams B.G. Shattering the Al-Qaeda-Chechen Myth (Part II) // Chechnya Weekly. 2003. Т. 4. №. 40.
- 41. Williams B.G. Allah’s foot soldiers: An assessment of the role of foreign fighters and Al-Qa‘ida in the Chechen insurgency // Ethno-Nationalism, Islam and the State in the Caucasus. Routledge, 2007. Рр. 174–196.
- 42. Army War College (US). Strategic Studies Institute. Russia’s homegrown insurgency: Jihad in the North Caucasus. – Strategic Studies Institute, US Army War College, 2012. URL: https://tile.loc.gov/storage-services/master/gdc/gdcebookspublic/20/23/69/27/88/2023692788/2023692788.pdf
- 43. Barbi C. Radicalizzazione e islamizzazione in Cecenia // Analytica for intelligence and security studies, 2021. URL: https://www.analyticaintelligenceandsecurity.it/wp-content/uploads/Caterina-Barbi-Terrorismo-Cecenia.pdf
- 44. Williams B.G. Commemorating “the deportation” in post-Soviet Chechnya: the role of memorialization and collective memory in the 1994–1996 and 1999–2000 Russo-Chechen Wars // History & Memory. 2000. Т. 12. №. 1. Рр. 101–134.
- 45. Klocker C. Suppressing collective memory: Chechnya’s ‘Day of Memory and Grief’ and the rehabilitation of Stalinism in today’s Russia // London Journal of Critical Thought. 2018. T.2. №2. Pp. 38–49.
- 46. Le Huérou A. et al. (ed.). Chechnya at war and beyond. London: Routledge, 2014.
- 47. Schaefer R.W. The insurgency in Chechnya and the North Caucasus: From gazavat to jihad. – Bloomsbury Publishing USA, 2010.
- 48. Schaefer R. Chechnya at War and Beyond, edited by Anne Le Huérou, Aude Merlin, Amandine Regamey and Elisabeth Sieca-Kozlowski, Routledge, 2014, 278 pp., $160 (hbk), ISBN 978-0-415-74489-8 // Caucasus Survey. 2015. Т. 3. №. 2. Рр. 182–185.
Просмотры
Аннотация - 844
PDF (Russian) - 512
Метрки статей
Metrics powered by PLOS ALM