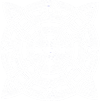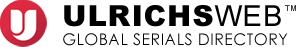EPITAPHS OF THE POST-MONGOL ERA. EXPERIENCE OF COMPARATIVE RESEARCH
- Authors: Babajanov B.M., Kurumbayev A.S.
- Issue: Vol 19, No 3 (2023)
- Pages: 623-634
- URL: https://caucasushistory.ru/2618-6772/article/view/8761
- DOI: https://doi.org/10.32653/CH193623-634
Abstract
The collapse of the Golden Horde at the end of the 14th century coincided with the expansion of the tradition of establishing tombstones with Arabic epigraphy. This did not at all mean mutual cultural isolation of those ethnic groups that were part of the ulus of Jochi Khan, spread over a large territory of Eurasia. The most revealing indicator of religious and, in general, cultural mutual influences of large and small ethno-political groups can be their tombstones in the form of steles and, less often, in the form of prismatic stones (“chests”). This article offers reviews of some groups of monuments of Western Kazakhstan in the context of obvious analogues with tombstones of the North Caucasus (especially in the Nogai steppe). The similarities are sometimes very obvious (forms of epitaphs, tamgas, types of tombstones, etc.). This allows us to talk about similar funeral and ritual traditions, clan structures, and forms of cult of the dead among the peoples neighboring in the steppes and cities of the Eurasian space. The study of tombstones of the Eurasian steppes as remnants of material culture, as objects of art, is in its infancy. The result of formalized descriptions and incomplete interpretations of the epigraphy of tombstones is sad. This written source turned out to be “auxiliary material”, often serving for dating or classification of clan associations and their tamgas. Social analysis or cultural contexts remain aside. These circumstances force us to look for new interpretive models, bearing in mind that the tombstones and their texts were created in certain historical conditions and in a social environment for which they were part of their ritual practices.
Введение
Исследования мусульманских погребальных сооружений и особенно намогильных памятников монгольской и пост-монгольской эпох в Евразийских степях и городах остается «terra incognita», несмотря на наличие серьезных публикаций, которые, однако, преимущественно обращались к материалу крупных городских центров, или известных святынь с комплексом архитектуры и погребальных сооружений. Самый показательный пример такой работы – замечательная публикация Л. И. Лаврова эпиграфических памятников Северного Кавказа [1].
Эпиграфика намогильных памятников ряда степных регионов крайне редко становилась предметом публикаций и до сих пор не исследовалась комплексно, не каталогизировалась. Исключения, видимо, составляют исследования декора и тамг намогильных стел. В публикациях «практически полностью отсутствуют сведения об эпитафиях, недостаточно разработана хронология, не вполне удовлетворительна аналитическая часть (это касается анализа и классификации декора намогильных камней и каменных сооружений)» [2, с. 60]. Мы бы добавили еще и любительские подходы в большинстве публикаций. По-видимому, скудное и чаще стандартное содержание эпиграфики намогильных памятников серьезно снижало интерес к этому виду письменного источника. Появляющиеся в последние годы публикации погребальной эпиграфики [ 2, с. 14–16] этот недостаток в той или иной мере преодолевают, хотя главные проблемы в этой сфере остаются. Это, прежде всего, отсутствие комплексности исследований и научной систематизации искомого материала.
В этой статье мы, во-первых, предлагаем обзор тех проблем, которые существуют в исследованиях погребальной эпиграфики степных районов Евразии (в географическом ее понимании). Во-вторых, постараемся соотнести существующие публикации с результатами собственных исследований на некоторых некрополях Западного Казахстана. Мы исходим из того, что «вариативность погребения коррелирует с вариативностью социальной» [3, с. 5], имея в виду близость погребально-ритуальных традиций кочевых субстратов названных территорий.
Существующие проблемы и первые попытки их преодоления
Как на пример преодоления упомянутых недостатков сошлемся на коллективную монографию «Сынтаслар. Намогильные стелы Ногайской степи», которая впервые преодолела эту разрозненность, любительские подходы и другие недостатки [2]. Это плод творчества коллектива авторов, которые серьезно зарекомендовали себя в качестве профессиональных исследователей в разных сферах. Это обстоятельство (то есть междисциплинарный и комплексный подход к исследованию) повысило качество исследования намогильных памятников несмотря на то, что в каталоге представлена лишь часть всего корпуса пока еще сохранившихся стел.
Составители презентовали свое исследование как Каталог [2, с. 66–627], который предваряет исследовательская часть [2, с. 8–65], с приложениями в виде таблиц с тамгами [2, с. 632–634] и обзора истории шейхов и святых [2, с. 628–631]. Исследовательская часть включает в себя обстоятельный историко-географический обзор и этнолингвистическое описание Ногайской степи («Предкавказье» по определению авторов). Здесь же мы находим топонимы кладбищ, описания погребальных обычаев ногайцев (включая устройство могил, ритуалы и пр.), их представления о смерти, отношение к покойникам и местам их погребений. Описаны материалы экспедиций, включена статистика (например, гендерные соотношения погребенных, социальные статусы), особенности резьбы, технологические наблюдения, особенности эпиграфики, содержания текстов (в основном трафаретных) и т. п. полезные обозрения в виде кратких очерков, создающие необходимый контекст для понимания изложенного ниже материала. В целом издателям Каталога удалось сделать первый шаг, чтобы преодолеть участь намогильных памятников и их эпиграфики, как вспомогательного источника, из которого извлекаются лишь даты, изредка имена, сведения о родовых тамгах, декоративных особенностей.
Не оспаривая важности и актуальности Каталога, нам хотелось бы высказать некоторые замечания, иногда в виде обсуждения и возможно, пожеланий, тем более что это лишь первый и начальный опыт такого исследования, который авторы намерены продолжить. Мы полагаем, что рассуждения о морфологии форм сынтасов [2, с. 33–37) интересны, но недостаточны. Важно было бы изучить исторический контекст появления этих видов надмогильных памятников, которые, как мы полагаем, восходят к древним тюрко-монгольским традициям установки на могилах знатных людей «балбалов» (получивших название у русских путешественников «каменные бабы»). Тем более что название «синтас» также архаично («сын/син» – фигура, стать; «тас» – камень. Термин отсылает нас к устойчивым формам этих памятников как антропоморфных изваяний древних тюрков). Поэтому, предположение авторов о том, что «представленный в книге тип намогильных стел сложился не ранее XVIII в.» [2, с. 24–25] нуждается в корректировке. Более ранние образцы (по крайней мере, не позже появления Золотой Орды) таких надмогильных стел хорошо известны (например, в Средней Азии, Крыму), в том числе и по публикациям, которые привели сами авторы. Это же касается анализа тамг и орнаментов сынтасов [2, с. 48–53]. И в этом случае, уместней было бы расширить ареал аналогов, обращаясь не только «на юг» (к кавказским аналогам), но и более обширным регионам к востоку и северу от ногайских степей (в том числе и Поволжье), к территории современного Западно-Казахстанского округа (ЗКО). Более расширенные поиски аналогов помогли бы, как нам кажется, преодолеть дискретность описываемого материала, на которую сетуют авторы Каталога [2, с. 53–55]. Желательно поместить этот материал в более обширный историко-географический контекст, дающий близкие аналоги, особенно в смысле родовых идентификаций основной части тамг, особенностей декорации, антропоморфных обликов, гравюр предметов и т. п.
Авторы полагают, что «из поля зрения эпиграфистов … выпадает проблема восприятия надписей, рисунков и орнаментов на ногайских сынтасах» и ставят уместные вопросы: «Читали ли жители Ногайской степи арабоязычные надписи? Или для них арабский текст вплетался в общий узор стелы как изящная арабеска? Или это lingua franca… ? А если читали, то кто и зачем?» … «… существует старое ориенталистское клише о том, что арабографичная каллиграфия в камне и на бумаге … служила лишь декоративным целям, представляла не имеющую внутреннего смысла изящную, но пустую арабеску» [2, с. 55–56], и что к такому же мнению склоняются авторитетные ученые. При этом дана ссылка на нашу работу [4, с. 61].
Внесем ясность в эти поспешные выводы и вырванные из контекста ссылки. Во-первых, многие публикации современных специалистов по мусульманской эпиграфике ставят те же вопросы и по-разному на них отвечают, в зависимости от материала (например: [5, с. 12–17; 6, с. 13–38; 7, с. 29–33, 347–356]). Мы же утверждаем, что «нет смысла ставить вопрос об уровне ‘грамотности населения’, как это часто делалось в советской литературе, унаследовавшей не самые лучшие штампы ориентализма. Обнаруживаемые и вводимые в научный оборот огромное количество бумажных (юридических, экономических и проч.) документов у людей разных социальных и экономических сословий, наталкивает на мысль, что с грамотностью в целом все было в порядке» [8, с. 61].
Во-вторых, собственно эпиграфика, как и любой текст, неоднообразна. Когда речь идет об «элитных текстах», исключительно на классической архитектуре и написанных языком «высокой литературы» с массой аллегорий и иных приемов эксклюзивных текстов (далеким от языка в живом общении), то их чтение действительно требуют специальной подготовки. Поэтому эпиграфика (как и любой текст) такая же социальная, как и ее условные «потребители», степень грамотности которых может быть разной.
В-третьих, как раз надмогильные тексты в большинстве своем не подпадают под такие характеристики, а их язык стандартизировался (по словам авторов в виде штампов), либо был предельно упрощен, как в случаях большинства ногайских памятников. В этом смысле трудно согласиться с авторами о том, что «в ногайских эпитафиях безраздельно господствует литературный арабский язык (ал-фусха)». Это преимущественно обычные тексты-клише, далекие от литературного арабского. Тем более авторы сами утверждают, что камнерезы (и возможно, каллиграфы, в случаях пространных текстов на надмогильных памятниках религиозной элиты) плохо владели арабским (1, с. 38–40).
Кстати, многие надписи Каталога требуют более обширных комментариев грамматики и особенностей написания в самом Каталоге. Еще одна проблема в Каталоге связана с корректным прочтением тюркских имен. По нашим наблюдениям примерно треть имен в презентованных текстах имеет проблемы в чтении (прочтены неточно, либо вовсе не прочтены). Правда, тюркская ономастика в погребальной эпиграфике одна из самых проблемных. Обычно эпиграфисты по-разному решают эти проблемы. Например, обращаясь к указателям академических изданий словарей, в том числе по ономастике, к изданиям тюркского эпоса (Радлов, Будагов, Дорфер, Сюмер и др.). Авторы не обращались к этим словарям. Поэтому чтение имен и «Указатели» оказались проблемными.
В целом, несмотря на упомянутые упущения, изданный Каталог ногайской погребальной эпиграфики следует оценить положительно, поблагодарить авторов за кропотливый и полезный во всех отношениях труд. Надеемся, что авторы продолжат эту работу.
Наше обращение к этому Каталогу не случайно, так как ряд наблюдений его составителей, параллели которым мы находим в ряде изучаемых нами похожих надмогильных памятников (местное название кулпытас) в Западно-Казахстанской области и других районах Казахстана [8, с. 7–12 и далее] и Узбекистана. Особенно это касается орнаментальных оформлений, высеченных под или реже над текстами, предметов (одежда, утварь), форм тамг, стилизованных животных и т. п. Мы нашли, что часто формы стел и стилистические лекала текстов очень сходны, равно как и почерки эпитафий с упомянутым Каталогом. Эти сходства мы предполагаем осмыслить в ходе наших исследований, прежде всего, в историко-культурном контексте. В этом смысле для нас будет особенно важен опыт авторов представленного Каталога. Для нас важно также, что исследователи отметили значение эпиграфики, которая служит самостоятельным и надежным источником для восстановления родовых сетей как основы социальных сегментов общества [2, с. 57].
В ходе проводимых Институтом востоковедения Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан плановых проектов (в том числе и в составе экспедиций в различные регионы Казахстана) обнаруживаются новые, памятники погребальной эпиграфики. Приведем некоторые предварительные результаты изучения крупных мемориальных комплексов.
Комплекс «Маулимберды», включает в себя три некрополя «Маулимберды-1», «Маулимберды-2» и «Каракога», в окрестностях села Базартобе Акжаикского района. Здесь было зафиксировано более 200 кулпытасов (синтасов). На комплексе функционировали медресе и мечеть. Этот комплекс ранее не упоминался в научных публикациях. Помимо обычной работы по учету и взятию под охрану памятников комплекса, проведена их фотофиксация, предварительные чтения эпитафий, обмеры и т. п. работа. Как ожидалось, формы надмогильных стел схожи с описанными выше кулыптасами (сынтасами) (рис. 1).
Эпитафии написаны на арабском языке, достаточно грамотно, каллиграфическим почерком (как на этой стеле ‘Абд ал-Карима, сына Шир-‘Али). Резчики, очевидно, были профессионалами и, в той или иной мере, понимали тексты, либо точно следовали написанным каллиграфами калькам. Зафиксированы надписи 55 стел с эпитафиями в арабской графике. Интересно, что традиция установления камней продолжилась и в советское время; зафиксированы надписи 10 стел в кириллице с эпитафиями в традиционном стиле.
Комплекс «Хан зираты» расположен в окрестностях села Кызылжар Шагатайского сельского округа Теректинского района. Некрополь был известен среди местного населения как «Хан мәйіті» (то есть «Ханские останки»). Однако население не знает имен тех, кто похоронен здесь (рис. 2).
В ходе пилотной экспедиции, проведенной исполнителями научного проекта (К. Куттымуратулы, А. Курумбаев), было выяснено, что главная могила принадлежит хану Младшего жуза Жанторе Айшуакулы (правил в 1805–1809). (рис. 3).
В результате экспедиционных работ обнаружены и обработаны – 141 стела и иные формы надмогильых стел. Все исследования этого некрополя и биографии исторических личностей, похороненных здесь, до сих пор проводились исключительно на основе легенд, сохранившихся в памяти местных старожилов. Изучение эпиграфики внесло существенные уточнения в состав погребенных, их общественный и политический статусы и т.п. Например, наряду с представителями родовой и политической элиты (с титулами «хан», «бай», «бий» «батыр» и т.п.) выявлена группа религиозной элиты (с титулами «шайх», «мударрис» «абыз», «ахун» с суфийскими титулами и др.). Интересен набор нисб, отражающий забытые (переименованные) села, городки и иные местности.
Такие же работы по фиксации и предварительной обработке проведены на некрополе Жангир-хана (Бокей-ордынский район Атырауской области). В ходе исследований проведена реинвентаризация памятников, обнаружены новые неучтенные стелы (в том числе в ходе раскопок). В результате этих работ зафиксировано 497 надмогильных памятников. (рис. 4).
За последние три года организовано 7 экспедиций с таким же набором исследований и работ по выявлению, очистке и фотофиксации старых и новых памятников, их зарисовками, систематизацией, составлением карт, предварительным чтением и т.п.
Работы проводились по следующему алгоритму и методам фиксации: зачерчивание архитектуры (погребального сооружения, мавзолеев, если есть, оград, фиксация призматических плит и стел); определение материала (мрамор, гранит, песчаник, цвет памятника) и параметров (размеров); фиксации графики (орнамента, алфавита, стиля надписей, техники гравировки); содержание эпитафий и сопровождающих текстов (статусы погребенных, родовая принадлежность и т.п.).
Обобщение данных зафиксированных надписей позволяет нам сделать предварительные выводы. Все надписи надмогильных памятников казахских предводителей (кроме комплекса Маулимберды), составлены на классическом тюркско-чагатайском языке. Большинство надписей имеют точные даты смерти или изготовления, что облегчает задачу выявления их историко-культурных контекстов. Особого внимания заслуживают эпитафии казахских ханов. Если в надписях XVIII в. в именах заметна тенденция религиозной (исламской) сакрализации покойных, а значит и основного источника легитимации их власти (Абу-л-Хайр-хан, Нур-‘Али-хан), то в XIX в. имена обретают этнополитический оттенок, что заметно в титулах, в которых, например, возрождается идея о «едином хане Дашт-и Кыпчака».
По содержанию и назначению изученные надписи обычно делятся на три группы: 1) благочестивые цитаты и назидательные изречения, как правило, религиозного содержания, многие из которых восходят к Корану и хадисам Пророка, либо цитируют их; 2) эпитафии с именами, титулами и датами смерти; 3) благопожелания. Каждая структурная единица текста занимает на плите «свое место». Иными словами, речь идет о стандартизации и иерархическом статусе компонентов текста. Сопроводительные тексты, обычно, состоят из подбора различных формул, одни из которых встречаются часто, другие – реже. Если краткие надписи состоят из одной эпитафии, содержащей лишь имя и отчество покойного (или покойной), а также года смерти и времени погребения, то в более развернутых эпитафиях на могилах представителей местной мусульманской духовной элиты тексты обычно предваряют благочестивые вступительные формулы и коранические цитаты.
Заключение
Таким образом, наши исследования находятся на стадии перерастания количества в качество. Помимо необходимости повторить опыт составителей упомянутого Каталога, исследовательская группа приходит к выводу о важности составления Единого корпуса погребальной эпиграфики Казахстана. При этом не менее важно сопоставление его с аналогичным материалом соседних областей тех территорий, которые некогда входили в состав Золотой Орды и во многом унаследовали ее культурные, этнополитические, социальные и иные «материальные и нематериальные лекала» обществ прошлого. Важно иметь в виду, что современные политические границы не совпадали с культурными и социальными границами обществ прошлого, что должно побуждать исследователей изучать исходный материал, который следует условно «возвращать» в те эпохи, когда они созданы, имея в виду, что культурные и общественные формы имели иные (не похожие на сегодняшние) этногеографические локусы.
Подобные структурные сходства мы наблюдаем в обширной литературе с подобными надмогильными памятниками (их основной список указан в упомянутом Каталоге [2, с. 8–37]. Поиск аналогов и систематизация такого рода материала не самоцель. Стелы с их антропоморфной формой, декоративной и письменной символикой могут дать новую телескопию на всю постзолотоордынскую мемориальную атрибутику как на зримые идеограммы продолжающегося в то время процесса исламизации в степях Евразии в самом обширном понимании (ритуальной, идеологический, социальной, с точки зрения изменений в ономастике и т. п.). Или, например, важно оценить и понять причины концентрации надмогильных памятников на отдельных площадках по родовым признакам. Либо сохранение родовых тамг, как символов родовых корпораций в пределах общины. Как эти устойчивые социальные реалии сочетались с исламской идеей единства общины вне этнической идентичности? Или мы должны говорить об особенностях ислама в среде казахов, ногайцев, кумыков, каракалпаков и др. этнических групп, которые соседствовали в степях Евразии? Или, например, можем ли мы на основании изучаемых надмогильных памятников говорить о «степных» формах бытования ислама, с обширной контаминацией исламских и доисламских компонентов? Надмогильные памятники особенно ярко отражают все упомянутые процессы.
Целый пласт специфических ногайских и казахских слов и терминов представляет несомненный интерес для филологов, изучающих заимствованные слова в диалекте букеевских казахов или казахов, проживающих в междуречье Волги и Урала. Это прежде всего касается таких терминов как сынтас, бас казык, шийхлар, зийарат, оьлик, кыблама и т. д. Кроме того, сопоставляя тексты надмогильных памятников упомянутого Каталога с нашим материалом, собранным в Западно-Казахстанской области в других регионах, мы все больше убеждаемся, что, несмотря на скудные формы текстов эпитафий, при должном подходе они помогут оценить формирование особенностей «языка погребальной эпиграфики» как письменности, особенности синтаксических конструкций в постзолотоордынском пространстве тюркских народов и особенно родовых корпораций, их сложные родственные и социальные связи (как важный компонент социальной идентичности на значительных территориях), круг святых, вокруг которых складывались целые некрополи (получающие нередко соответствующие эпонимы), ставшие символами духовных предпочтений целых родов и колен. Очевидно, что такого рода важные контексты, которые может дать комплексное исследование погребальной эпиграфики, не изучены в полной мере, что побуждает продолжать исследования, имея в виду единые культурные и лингвистические сходства социумов, обитавших на огромном Евразийском пространстве в прошлом.
https://caucasushistory.ru/2618-6772/editor/downloadFile/8761/164949
https://caucasushistory.ru/2618-6772/editor/downloadFile/8761/164950
https://caucasushistory.ru/2618-6772/editor/downloadFile/8761/164951
https://caucasushistory.ru/2618-6772/editor/downloadFile/8761/164952
Bakhtiyar M. Babajanov
"R.B. Suleimenov Institute of Oriental Studies" of the Science Committee of the Ministry of Science and Higher Education
Email: bbmir58@gmail.com
ORCID iD: 0009-0003-6623-4125
Uzbekistan, Republic of Kazakhstan, Almaty, Shevchenko Street, 28
invited specialist in the position of Chief Researcher, Doctor of Historical Sciences
Aibulat Sh. Kurumbayev
"R.B. Suleimenov Institute of Oriental Studies" of the Science Committee of the Ministry of Science and Higher Education
Author for correspondence.
Email: founsni@gmail.com
ORCID iD: 0009-0005-8270-841X
Kazakhstan, Republic of Kazakhstan, Almaty, Shevchenko Street, 28.
Leading Researcher, Master of Humanities
- Epigraphic monuments of the North Caucasus in Arabic, Persian and Turkish. Texts, translations, introduction and applications by L.I. Lavrov. Series: Monuments of Eastern Literature. Part 1. Inscriptions X – XVII centuries. Moscow: Nauka, 1966 (261 pp.); Part 2. Inscriptions of the 17th – 20th centuries. Moscow: Nauka, 1968 (242 pp.); Part 3. Inscriptions of the 10th–20th centuries. New finds. Moscow: Nauka, 1980: 168. (In Russ.)
- Syntaslar. Grave steles of the Nogai steppe (Catalog). K.S. Balgishiev, V.O. Bobrovnikov, E.I. Zheltov, V.A. Korenyako (eds.), with the participation of A.A. Yarlykapov. Photos by E.I. Zheltova. M.: Marjani Publishing House. 2016. ISBN 978-5-903715-97-8. — 672 p. (with illustrations). (In Russ.)
- Hodder, Ian & Hutson, Scott. Reading the past. Current approaches to interpretation in archaeology. Cambridge: Cambridge University Press, 2003 (3rd edn): 1-28.
- Babdjanov BM. Architectural epigraphy Khiva: Culture, proclamation, ideology. Vein: Institute of Iranian Studies of the Academy of Sciences of Austria. 2014. (https://seeinglikeanarchive.files.wordpress.com/2014/09/arkhitekturnaia-epigrafika-khivy1.doc)
- Blair, Sheila. The Monumental Inscriptions from Early Islamic Iran and Transoxiana. Studies in Islamic Art and Architecture Supl. Muqarnas. Vol V. Leiden – New-York – København – Köln, 1992.
- Hillenbrand, Robert. Islamic Monumental Inscriptions Contextualized: Location, Content, Legibility and Aesthetics. Lorenz Korn und Anja Heidenreich (eds.). Ernst-Herzfeld-Gesellschaft, Beiträge zur Islamischen Kunst und Archäologie. 2012. Band 3. Wiesbaden. pp. 13–38.
- Babadjanov BM. Epigraphy in the architectural landscape of Khiva: mosques, burial complexes, madrasas, palaces, gates. Part 1: Introduction, reading texts, commented translations. Vienna: Austrian Academy of Sciences, 2019.
- Adzhigaliev SI. Genesis of the traditional funerary-cult architecture of Western Kazakhstan (based on the study of small forms). Almaty: Gylym. 1994. (In Russ.)
Supplementary files
There are no supplementary files to display.
Views
Abstract - 9129
PDF (Russian) - 224
Article Metrics
Metrics powered by PLOS ALM