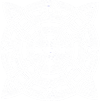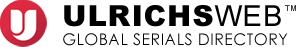IBRAHIM B. KHUJASH AND SPIRITUAL TIES BETWEEN THE VOLGA REGION AND DAGESTAN
- Authors: Adygamov R.K.
- Issue: Vol 19, No 2 (2023)
- Pages: 364-370
- URL: https://caucasushistory.ru/2618-6772/article/view/1908
- DOI: https://doi.org/10.32653/CH192364-370
Abstract
With the development of diverse, and especially spiritual ties between the republics of Tatarstan and Dagestan, the issue of studying the historical connection between them is becoming increasingly relevant. This problem is studied in the publications of Khabutdinov A.Yu., Bobrovnikov V.O., Navruzov A.R., Shikhaliev Sh.Sh., Safargaleev I.F., Malikov R.I., Kemper M. et al. Some of the research papers at Kazan Islamic University were dedicated to her. But the issue remains not fully investigated. This problem needs a more comprehensive and in-depth study, since it is known that there were spiritual, personal and commercial ties between the theologians of the two regions. A deeper study of it could also give an idea of the mutual influence of the ideas of the theologians of the two regions. This problem also requires the study of individual personalities, one of the most famous among them is Ibrahim Khujash. He and his relative were among the first Tatar imams of the XVIII – XIX centuries who were educated in Dagestan. He is mentioned in the works of S. Marjani, M. Ramzi and R. Fakhrutdin, and a number of Dagestani theologians. Thus, the purpose of this article is to study already known studies on this topic, to identify and analyze information about the life and work of Ibrahim Khujash, as well as an attempt to trace the connection between the influence of Dagestan education on the views and activities of the theologian. An analysis of the literature on this topic has shown that the problem hasn’t been solved and needs a deeper and more comprehensive study. The biography of Ibrahim Khujash in various sources is presented quite briefly. It follows from it that they, having been educated in Dagestan and some cities of the Ottoman Empire, returned to their homeland and performed the duties of an imam. His zealous attitude to the Sunnah, and harsh criticism of folk traditions, makes it possible to assume the influence of Dagestan education, in which the study of hadith played an important role.
Введение.
Связи между богословами Поволжья и Дагестана
Взаимоотношения богословов Поволжья и Дагестана в трудах XIX – начала XX в. не рассматривались ранее в специальном исследовании. Сведения о них можно извлечь только из биографий известных личностей обоих регионов, которые написаны как татарскими, так и дагестанскими богословами-историками.
К татарским источникам относятся труды Ш. Марджани (1818–1889) «Мустафад ал-ахбар…», «Вафийат ал-аслаф», М. Рамзи (1854–1934) «Талфик ал-ахбар…», Р. Фахрутдина (1859–1936) «Асар», которые упоминают ряд известных личностей Поволжья, которые получали образование у дагестанских наставников. Дагестанские источники представлены работами дагестанского богослова и историка Али ал-Гумуки (Каяев, 1878–1943), упоминающего в своем биографическом сочинении «Тараджим ‘улама Дагистан» о дагестанском богослове Садр ад-Дине Сулаймане ал-Лакзи, преподававшем в одном из крупных городов Золотой Орды [1, c. 43]; Назиром ад-Дургили (1891–1935), автором биобиблиографического словаря «Нузхат ал-азхан». В частности, он указывает: «Среди тех из казанских ученых, кто прибывал в Дагестан в поисках знаний, были шейх Мухаммадрахим ал-Казани, умерший в 1232 / 1816-17 гг.; шейх Ибрахим ал-Казани, умерший в 1241 / 1825-26 г. Шейх Ибрахим эфенди и шейх Мухаммадрахим эфенди прибыли в Дагестан, учились здесь у великих и превосходных ученых в течение десяти лет, в частности они встречались с ‘Али эфенди Ширвани» [2, c. 27].
Среди современных исследований данная проблематика затрагивается в статье А.Ю. Хабутдинова «Этапы развития образования у мусульман Оренбургского магометанского духовного собрания в XVIII — начале XX вв.: региональный аспект» [3], который со ссылкой на татарские источники, пишет, что «после уничтожения Казанского ханства часть мусульман бежала в Дагестан, в Крым и даже в Турцию. Через некоторое время часть из них вернулась обратно. Среди этих вернувшихся были люди, учившиеся у ученых людей, и в местах получения образования они переписали и привезли с собой некоторые сочинения и книги [4, c. 238–239].
В статье Бобровникова В.О., Наврузова А.Р., Шихалиева Ш.Ш. «Исламское образование в Дагестане от «перестройки» до наших дней» [5, c. 137–158] дается общий обзор истории функционирования системы исламского образования Дагестана, начиная с сельского и заканчивая республиканским уровнем. Хотя в ней и рассматриваются механизмы взаимодействия регионов, однако, историческому аспекту внимание не уделено.
Связям между членами суфийских братств мусульманских регионов России конца XIX – нач. ХХ вв. посвящена статья Шихалиева Ш.Ш. «Зайнулла Расулев и Сайфулла-кади Башларов: письменные свидетельства о наставничестве двух шейхов» [6, c. 359–364]. Анализируя одну из рукописей, найденных в частной коллекции жителя Дагестана, автор изучает тесные контакты двух наставников Зайнуллы ишана Расулева и Сайфуллы-кади Башларова. Этот документ представляет собой сборник иджаз (разрешений на наставничество), полученных Зайнуллой Расулевым от своих учителей и впоследствии переданных Сайфулле-кади Башларову, как очередному продолжателю традиции тариката.
Статья Сафаргалеева И.Ф. «Ритуальная практика накшбандийского тариката в письменном наследии Зейнуллы Расулева и ее значение» [7, c. 173-181] посвящена актуальности возрождения суфизма, как традиционной для России формы бытования ислама. И в этой связи особое внимание уделяется наследию Зейнуллы ишана Расулева, преемственность учения которого сохраняется и развивается благодаря дагестанским последователям Сейфуллы Башларова.
Также представляет интерес и коллективное исследование Кемпера М., Шихалиева Ш.Ш. «Дагестанское мусульманское реформаторство первой трети ХХ века как разновидность джадидизма» [8, c. 52–58]. Оно посвящено в основном вопросам джадидизма, однако, анализируя идеи реформаторства, авторы уделяют внимание тем мыслителям, которые пошли дальше идей реформы системы образования и выступали с критикой традиционализма в вопросах мусульманской догматики и фикха, что объединяет их с татарскими джадидами.
Также проблематику связей двух регионов рассматривает Маликов Р.И. в статье «Жизнь и деятельность Гарифуллы ишана Гайнуллина (1894–1984)» [9, c. 95–106]. Гарифулла ишан Гайнуллин, один из авторитетных религиозных деятелей Среднего Поволжья советского периода, был последним татарским шейхом накшбандийского тариката. Он был связан с шейхом Баязидом ишаном Хайруллиным, учеником Зайнуллы ишана Расулева.
Наиболее полно данная проблема рассматривается в статье Ш.Ш. Шихалиева «Краткие сведения о контактах мусульман Дагестана и Волго-уральского региона в XVIII–XX вв.» [10, c. 104–128]. Автор глубоко анализирует взаимоотношения между богословами двух регионов. Приводимые Ш.Ш. Шихалиевым источники, указывают на двусторонний, систематический характер контактов между ними. Если в конце XVII–XVIII вв. обучение некоторых татарских богословов в Дагестане оказывало влияние на систему образования Волго-Уральского региона, то, начиная со второй половины XIX в., наблюдается очень сильное влияние обновленческих идей мыслителей Поволжья на дагестанскую интеллектуальную элиту. С ХХ в. в Дагестан начинают попадать многочисленные татарские журналы, учебники и научно-богословская литература.
Ибрахим б. Худжаш как один из наиболее известных татарских выпускников дагестанской
богословской школы
Хотя Ибрахим б. Худжаш был известной в Поволжье личностью, его биография довольно кратко рассматривается во всех трех упомянутых трудах татарских богословов. В целом информация об имени и происхождении богослова совпадает. В частности, Ш. Марджани указывал: «Мулла Ибрахим бин Худжаш родом из деревни Шарлама Бугульминского уезда» [11, c. 24].
Авторы довольно кратко рассказывают об обучении богослова в Дагестане. В «Мустафад» сказано: «Ибрахим ибн Худжаш вместе с ахундом Мухаммадрахимом, будучи молодыми, ездили на Кавказ и учились у муллы ‘Али аш-Ширвани, а также других уважаемых богословов своего времени. Во время учебы у муллы ‘Али, мулла Ибрахим написал свой трактат «Руб‘ ал-мукантырат»…» [11, c. 24]. М. Рамзи в «Талфик…» сообщает, что они: «…также посетили Сивас и Диярбекир» [12, c. 352], из чего можно предположить, что помимо дагестанского образования, Ибрахим б. Худжаш и Мухаммадрахим также получили и османское, либо встречались с богословами Османской империи.
Получив образование, как пишет Ш. Марджани: «Ибрахим вернулся на родину, в 1197 г. (1782 г. – прим. А.Р.) начал исполнять обязанности имама в деревне Утар, а позднее в деревне Новый Кишит (Яна Кишет). В 1208г. (1794г.) в месяц
зу-л-ка‘да (май, июнь) мулла Ибрахим переехал в Казань и после муллы Абу Бакра стал исполнять обязанности имама, проповедника и преподавателя в первой мечети, а в дополнение к этому он был назначен ахундом. Он был в очень близкой дружбе с муфтием муллой Мухаммаджаном (занимал должность 1788-1824 г. – прим. А.Р.) и даже в своих мольбах просил у Аллаха: «О Господи, сохрани нашу крепкую дружбу с муфтием»». Вероятно, назначение ахундом было связано с религиозным, богословским авторитетом муллы Ибрахима. Его авторитет был признан и властями, согласно словам Р. Фахрутдина, в 1797 г. мулла Ибрахим, собрав казанских имамов, встречал императора Павла Петровича [13, c. 109]. У Рамзи М. мы находим сведения, что Ибрахим б. Худжаш преподавал «Усул ал-фикх», «Хадис» и «Тафсир» [12, c. 352], что указывает на его широкий кругозор и глубокие познания в исламском богословии.
По всей видимости, Ибрахим б. Худжаш был человеком довольно состоятельным, так как Ш. Марджани, рассказывая о нем, указал: «Жил он вольготно, вел бойкую торговлю, имел большие богатства, ценные книги» [14, с. 255].
Несмотря на довольно скудную информацию, можно получить сведения о некоторых взглядах богослова: «Мулла Ибрахим относился к тем, кто в самые короткие летние ночи не отказывался от совершения ночной молитвы. Он предположительно (такдир) определял ее время» [11, c. 25]. Поскольку информация довольно краткая, особенности этой фетвы и аргументы богослова неизвестны, сложно определить было ли это влиянием образования, полученного в Дагестане.
Оценивая результат деятельности муллы Ибрахима, Ш. Марджани писал: «Говорят, что его смелость, финансовая независимость и близость к муфтию позволила ему выступить против некоторых казанских нововведений. До его прихода мужчины и женщины во время собраний и пиршеств сидели за одним столом. Мужчины носили черные шляпы, камзолы и сапоги, а чалму не носили. Став имамом, мулла Ибрахим начал исправлять все эти ошибки, связанные с образом жизни и одеждой. Люди стали приходить в мечеть и на собрания в чалмах. Он превратил никах в средство призыва к исполнению молитв, в этой связи во время обряда никаха женихам начали дарить молитвенные коврики, а невеста в дом жениха приходила с кувшином. Вначале этих преобразований в Казани можно было найти только черные шляпы, первыми же из Москвы, договорившись между собой, белые шляпы заказали казанские купцы Юсуф б. Исмаил б. Апанай, Юсуф б. Бикбау б. Хатай и Убайдулла б. Муртаза» [11, c. 25]. Анализируя упомянутые воззрения имама Ибрахима, можно предположить, что причиной подобных взглядов и отношения было дагестанское образование, в котором делался упор на хадисы, что вело к особо щепетильному отношению муллы Ибрахима к понятию бид‘а.
Помимо преподавательской деятельности богослов занимался и разрешением спорных вопросов, особенно внутрисемейных конфликтов. Как указывал Ш. Марджани: «…мулла Ибрахим разрешал спорные вопросы между мужьями и женами. Если женщина обращалась с просьбой о разводе, он, утверждая, что у большинства простолюдинов брак не действительный, недолго думая выносил решение о разводе [11, c. 26]. Более подробно об этом направлении деятельности Ибрахима б. Худжаша рассказывает Фахрутдин Р. в своем «Асар», где приводит конкретные ситуации, разрешенные имамом и упоминает имена мусульман, обратившихся к нему за помощью [13, c. 111], а также и содержание писем тех, кто обращался к нему за помощью в решении семейных проблем [13, c. 112–114].
Ш. Марджани частично подвергал критике судебную деятельность Ибрахима б. Худжаша. «Однако его поведение как судьи не было безупречным. Иногда он выдавал замуж замужних женщин за других мужчин и говорил, что браки простонародья не бывают долгими, потому что они то и дело говорят то, что разрушает брак» [14, с. 254].
Характеризуя Ибрахима б. Худжаша как богослова, М. Рамзи суммировал: «Таким образом, герой нашего повествования был одним из величайших ученых, проповедников этой уммы, побуждал к благому и предостерегал от запретного. Он говорил правду, отличался красивой, логичной речью. Он внес изменение во многие новшества и традиции, связанные с одеждой, пищей, питьем и многим другим, противоречившим исламу» [12, c. 353].
Заключение
Безусловно проблема взаимоотношений между богословами Поволжья и Дагестана, их взаимного влияния, сохраняет свою актуальность и в настоящее время. Это связано с довольно теплыми отношениями между ДУМД и ДУМ РТ, близкой позицией относительно сохранения богословской традиции. Также большое значение имеет и тот факт, что в Дагестане присутствует довольно большая ханафитская община. Однако, анализ исследований по данной проблематике показывает, что тема изучена недостаточно и может быть выделена в самостоятельное полноценное исследование, результатом которого могла бы стать подготовка справочника персоналий татарских и дагестанских богословов, имевших отношения к связям между регионами.
Одной из наиболее известных личностей, получивших образование в дагестанских медресе, был Ибрахим б. Худжаш. Несмотря на скудность информации, изучение данных о его жизни, образовании и деятельности, указывает на то, что он был довольно известным и влиятельным богословом своего времени, внесшим значительный вклад в коррекцию и развитие богословской традиции Волго-Уральского региона. Также анализ информации о его вкладе в духовную жизнь татарского народа дает возможность предположить о содержательном влиянии дагестанского образования на взгляды богослова, который расширил список преподаваемых исламских дисциплин и активно консультировал население по семейным вопросам.
Ramil K. Adygamov
Marjani Institute of History Tatarstan Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: abu_muhammad@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-0448-0107
SPIN-code: 9728-5667
Russian Federation
Cand. Sci. (History), Senior Researcher
- Ali Kayaev. Biographies of Dagestan scientists / Compiled by Hasan Orazayev, Tuba Işinsu Durmuş. Ankara, 2012.
- Nazir ad-Durgeli. The delight of minds in the biographies of Dagestan scientists / translated from Arabic, fax, ed., decree and bibliography. A.R. Shikhsaidov, M. Kemper, A.K. Bostanov. Moscow: Publishing House “Marjani, 2012.
- Khabutdinov AYu. Stages of the development of education among Muslims of the Orenburg Mohammedan spiritual assembly in the XVIII — early XX centuries.: regional aspect. Medina. Access mode: http://idmedina.ru/books/materials/faizhanov/2/plenary_habutdinov.htm 14.10.2022.
- Fakhrutdin R. Turks оf Bulgar and Kazan. Kazan: TKN, 1993.
- Bobrovnikov VO., Navruzov AR., Shikhaliev ShSh. “Islamic education in Dagestan from “perestroika” to the present day”. Pax Islamica. 2010. 2 (5). pp. 137-158.
- Shikhaliev ShSh. Zainulla Rasulev and Sayfulla-qadi Bashlarov: written testimonies of the mentorship of two sheikhs. Traditional Islam in Russia and an outstanding Bashkir theologian and educator of the Muslim world, Sheikh Zainulla Rasulev. 2018: 359-364.
- Safargaleev IF. Ritual practice of the Nakashbandi tariqa in the written heritage of Zeynulla Rasulev and its significance. II Bulgarian readings “Renewal Processes in the Islamic World: Theological Heritage and Modernity”. Bolgar, 2019: 173-181.
- Kemper M., Shikhaliev ShSh. Dagestan Muslim reformism of the first third of the twentieth century as a kind of Jadidism. Orazaev G.M. Akaev Abusufyan: epoch, life, activity. The life of wonderful Dagestanis. Makhachkala: Dagknigoizdat, 2012: 52-58.
- Malikov RI. The life and work of Garifulla ishan Gainullin (1894-1984). Islamic studies. 2021; 1 (47): 95-106.
- Shikhaliev ShSh. Brief information about the contacts of Muslims of Dagestan and the Volga-Ural region in the XVIII–XX centuries. History, archeology and ethnography of the Caucasus. 2020; 16(1): 104-128.
- Marjani Sh. Useful news about the state of Kazan and Bulgar. Kazan, 1900; 2.
- Ramzi M. The connection of news and the selection of legends about the events of Kazan and Bulgar. Beirut, 2002; 2.
- Fakhrutdin R. Heritage. Kazan: Ruhiyat, 2006; 1.
- Marjani Sh. Enough about the predecessors and greetings to the descendants: Translation from Arabic of selected biographies, research and commentary, facsimiles of sections about the Volga-Ural region. Kazan, 2021.
Views
Abstract - 516
PDF (Russian) - 206
PDF (English) - 146
Article Metrics
Metrics powered by PLOS ALM