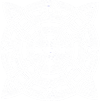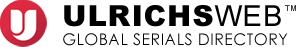“CAUCASIAN” NARRATIVES OF MODERN POLITICS OF MEMORY IN GEORGIA
- Authors: Kyrchanoff M.V.
- Issue: Vol 18, No 3 (2022)
- Pages: 694-714
- URL: https://caucasushistory.ru/2618-6772/article/view/1821
- DOI: https://doi.org/10.32653/CH183694-714
Abstract
The purpose of this study is to analyze the Caucasian dimension in the modern Georgian historical politics of memory. The author analyzes the main vectors and trajectories of the development of Caucasian narratives in the modern memorial canon of Georgia. The novelty of the study lies in the analysis of the practices and strategies used by Georgian intellectuals within the framework of the functioning of Caucasian narratives in the modern memorial canon of Georgia as an element of the politics of memory. Methodologically, the article is based on the principles proposed in the framework of the memorial turn in modern interdisciplinary historiography. The article analyzes: 1) the role of political elites and the media in the formation of Caucasian narratives in the politics of memory, 2) features of the performative turn in historical politics, 3) Abkhazian and Ossetian narratives as components of the Caucasian politics of memory in modern Georgia. The article shows both the consolidating and conflict potential of the Caucasian dimension in Georgian historical politics. It is assumed that the Caucasian narratives in the modern memorial canon are predominantly symbolic for solving internal political problems, since the real influence of Georgia in the region is minimized by external factors. The results of the study suggest that the Caucasian narratives in the Georgian politics of memory have become an element of the ideological legitimation of the elites and the promotion of the concept of Georgia’s special role in the Caucasus.
Введение
На современном этапе большинство существующих в мире государств проявляют значительную активность в сфере контроля над исторической памятью своих обществ. Комплекс мер, практик и стратегий, используемых правящими элитами в этом направлении, в историографии обозначается как историческая политика или политика памяти.
Впервые элементы исторической политики, как политически и идеологически выверенной «проработки прошлого» в общественном дискурсе, проявились в ФРГ в середине 1980-х гг. В 1990-е гг. к ресурсам исторической политики обратились страны Центральной и Восточной Европы, где политика памяти привела к созданию специализированных институтов, призванных профессионально заниматься ревизией истории и по ее результатам формировать новые мемориальные каноны, транслируя и институционализируя их при помощи средств массовой информации, что, в отличие от германского случая, вытеснило профессиональные исторические сообщества на второстепенные роли. В 2000–2010-е гг. политика памяти постепенно вошла в число методов, используемых политическими элитами государств постсоветского пространства.
Одной из бывших советских республик, элиты которой предприняли шаги, направленные на выработку собственной версии исторической политики, стала Грузия. Грузинская политика памяти несет в себе все «родовые травмы» этого явления современной интеллектуальной жизни стран Центральной и Восточной Европы. В Грузии созданы специализированные институции (Музей советской оккупации), разного рода общественные фонды, которые при помощи ревизии более ранних версий истории, деконструкции советского наследия формируют новый мемориальный канон, основанный, как и в случае с центральноевропейскими государствами, на последовательной критике коммунизма, что сочетается с попытками утверждения новой версии памяти, в основе которой оказываются либеральные идеи и ценности открытого общества.
В этом контексте грузинская политика памяти актуализирует свои, вероятно, наиболее яркие характеристики. Во-первых, историческая политика тесно смыкается с грузинским национализмом, фактически став еще одним пространством воспроизводства националистических мифологем Великой Грузии, утраченных государственностей, потерянных территорий и постоянного наличия внешней угрозы. Во-вторых, на современном этапе грузинское националистическое воображение не существует только и исключительно в рамках дискурса, воспроизводимого различными поколениями националистов. В-третьих, современный национализм мимикрирует под либеральный дискурс, активно используя концепты «свобода» и «нация» для продвижения националистического воображения не в гражданской, но в этнической форме. Поэтому грузинская историческая политика обладает и значительными национальными особенностями, важнейшим из которых является участие как политического, так и этнического националистического воображения в попытках формирования нового «мемориального канона».
Методология, историография и особенности источникового корпуса
В плане методологии изучения современной политики памяти в историографии представлены два подхода. Первое направление представлено традиционными нарративно-дискурсивными исследованиями [1]. В рамках такого подхода историческая политика воспринимается как совокупность нарративов, предлагаемых интеллектуалами, вовлечёнными в идеологически и политически мотивированные интерпретации истории. Нарративные стратегии формирования памяти универсальны, так как большинство участников исторической политики конструирует свои представления о прошлом в рамках нарративных пространств [2], представленных широким числом текстов – от школьных учебников [3] до публикаций СМИ, предназначенных для массового читателя как основного потребителя и носителя памяти [4]. В количественном отношении подобные штудии составляют основу современной историографии исторической политики.
В центре второго направления изучения политики памяти ее интерпретации через призму визуального поворота [5]. В рамках этого направления историческая политика воспринимается как совокупность стратегий, реализуемых массовой культурой [6]. Поэтому в качестве основных пространств бытования и функционирования культуры памяти позиционируется кинематограф [7], который ассимилирует различные социальные, политические и исторические памяти [8]. Подобная модель анализа исторической политики позволяет избегать крайностей нарративного подхода и сведения памяти до одного из случаев дискурса. Вместе с тем она чревата редукцией мемориальных культур до визуальных проявлений современного общества потребления.
Поэтому представленная статья в теоретическом плане представляет собой попытку избежать крайностей двух существующих в современной историографии подходов. Методологически представленная статья основана на тех принципах, которые в 2000–2010-е гг. были выработаны в международной и российской историографии в рамках мемориального поворота [9], который актуализировал рост исследовательского интереса к культурам исторической и социальной памяти [10], что привело к изучению как роли интеллектуальных сообществ в историческом воображении, конструировании образов прошлого [11], так и к анализу механизмов действия коллективной амнезии или искусственной актуализации одних моментов в национальной исторической памяти в ущерб другим. Кроме этого, с точки зрения методологии, данная статья может быть отнесена к интеллектуальной истории или истории идей, так как современная политика памяти немыслима без непосредственного или опосредованного участия в ней представителей академических сообществ, вовлеченных в процессы ревизии истории, деконструкции доминировавших раннее представлений о прошлом и их замене новой версией исторической памяти, оформленной в виде идеологически и политически санкционированного элитами нового «мемориального канона».
Вместе с тем в плане методологии статья не может быть отнесена к исследованиям, следующим в русле «классических» теорий памяти, представленных текстами М. Хольбвакса [12], П. Нора [13] и А. Ассманн [14]. Рассматривая «кавказское» в исторической памяти Грузии, автор не считает возможным определять его как один из «points de repère» в терминологии М. Хольбвакса в силу того, что анализируемые нарративы санкционированы не социально, но преимущественно мотивированы идеологически. Автор, анализируя кавказские нарративы в современной грузинской мемориальной культуре, не относит их к числу «lieux de mémoire» в терминологии П. Нора, так как последние соотносятся с наследием, представленным памятниками, праздниками, торжествами и даже событиями, символически важными для той или иной идентичности. «Кавказское» в интерпретации автора статьи в современной грузинской политике памяти лишено той символичности и сакральности, которой «места памяти» наделяет П. Нора, так как его присутствие в политическом дискурсе носит преимущественно прикладной характер, будучи связанным с актуализацией интересов элит. В анализе кавказских нарраций грузинской памяти автор не следует за концепцией, предложенной А. Ассманн, так как стратегии развития коллективной мемориальной культуры Грузии не соотносятся с фактически идеальными моделями, описанными немецкой исследовательницей и, поэтому основаны не на диалоге и примирении, а на постоянной актуализации памяти как травматического опыта.
В современной междисциплинарной историографии, сложившейся в результате мемориального поворота и ревизии ранее доминировавших представлений, историки несколько иначе расставили исследовательские акценты. Поэтому критическое восприятие классической историографии памяти является проявлением исторического ревизионизма, если мы под ним понимаем принятие ревизии в исторических исследованиях как «жизненной основы исторической науки. История представляет собой непрерывный диалог между настоящим и прошлым. Интерпретации прошлого могут меняться… Не существует единой, вечной и неизменной “истины” о событиях прошлого и их значении… без историков-ревизионистов, которые проводили исследования новых источников и задавали новые и острые вопросы, мы бы так и погрязли в тех или иных стереотипах» [15]. Поэтому без ревизии концептов «памяти» ее изучение было бы основано на воспроизводстве анализа нарративных стратегий конструирования коллективной идентичности, исключив перемены в историографии.
Эти историографические новации выразились в том, что наряду с нарративно-дискурсивными практиками интеллектуалов, направленными на формирование представлений о прошлом, важным объектом изучения оказалась мнемоническая культура, представленная коллективной памятью. Поэтому, с одной стороны, сложился новый тип историографической культуры, в рамках которой понятия «историческая политика» и «политика памяти» фактически используются как синонимы, а дефиниции «культуры памяти», «мемориальная культура» и «мемориальный канон» фактически описывают частные (национальные) случаи манипуляции с историей в политических целях. С другой, в современной историографии не представляется возможным отказаться при анализе исторической политики от концепта «нарратив», понимаемым автором статьи в рамках того восприятия, предложенного в исследованиях современного американского исследователя Дж. Верча [16]. В целом, соглашаясь с возможностью применения и сравнительного анализа нарративов для изучения различных форм национальных памятей, автор полагает, что на актуальном этапе не только стратегии нарративизации начинают играть второстепенную роль в сравнении с визуальными формами актуализации памяти [17].
Если проблемы исторической политики в целом и ее отдельные национальные формы в Восточной и Центральной Европе получили определенное изучение в российской историографии [18], то вопросы политики памяти в современной Грузии [19] и на Кавказе относятся к числу тем изученных незначительно [20], чему способствует как языковой барьер, недоступность большинства оригинальных источников историкам в России, так и определенная периферийность грузинской версии «проработки прошлого» в сравнении с аналогичными европейскими сюжетами, которые чаще оказываются в сфере внимания отечественных историков. В целом, «кавказское» [21] в исследованиях политики памяти в Грузии [22] пребывает в тени других аспектов [23] грузинской исторической политики, которые в современной историографии изучаются в большей степени [24].
В современной российской историографии понятие «историческая политика» иногда может неверно соотносится с академической историографией, что существенно влияет на субъективный выбор источников в каждом отельном случае изучения политики памяти. Анализируя политику памяти в современном грузинском контексте в рамках кавказских нарративов, автор исходит из того, что историческая политика и историография не могут быть тождественными понятиями. Тексты, формирующие историографию представленной статьи, могут быть локализованы в рамках академического дискурса, будучи исключенными из политики памяти, так как последняя представляет собой продвижение идеологически мотивированного представления о прошлом. Источниковый корпус, наоборот, представлен неакадемическими текстами, ограниченными в данном случае публикациями «რადიო თავისუფლება», грузинской версии «Радио Свобода», которые отражают основные особенности манипуляции с историей в политических целях. Специфика историографического и источникового корпуса статьи еще раз подчеркивает принципиальное отличие и отсутствие идентичности между исторической политикой и академической историографией.
Цель, задачи, хронологические рамки статьи
В центре авторского внимания будут проблемы политики памяти в Грузии, ограниченные в представленной статье кавказскими нарративами в историческом и политическом воображении интеллектуалов и элит, которые фактически оказались участниками «войн памяти» – культурного и историографического конфликта с национальными историографиями России в целом и северокавказских республик в частности.
Грузинская, российская и национальные историографические традиции республик РФ Северного Кавказа различно воспринимают «кавказское», ассимилируя его в собственных историографических культурах и адаптируя под конкретные идеологические задачи. Если в российской историографии «кавказское» редуцируется до истории имперского строительства, в национальных регионах – до российского завоевания и сопротивления ему, то в грузинском случае «кавказские» нарративы в одинаковой степени призваны актуализировать опасность, исходящую от «имперской» России, так и визуализировать виктимизацию народов, ею завоеванных.
Поэтому целью статьи является анализ функционирования «кавказских» нарративов и образов в современной грузинской политике памяти, а задачами – изучение стратегий, при помощи которых формируются кавказские образы в историческом воображении Грузии и анализ тактик, содействующих их интеграции в современный мемориальный канон. Хронологически статья ограничена функционированием только кавказских нарративов в период президентства С. Зурабишвили (с 2018 г.).
Подобные хронологические и тематические ограничения представленной статьи, сфокусированной только на кавказском пласте актуальной исторической политики Грузии, мотивированы тем, что системообразующие аспекты грузинской политики памяти, включая образы государственной традиции [25], восприятие России и Европы [26], особенности конструирования советской оккупации [27], институциональные формы политики памяти [28], проявления националистического воображения [29], участие интеллектуалов и политических элит [30] в формировании коллективной памяти и трансформации мнемонических пространств [31] неоднократно пребывали в центре авторского внимания в предшествующих публикациях.
«Традиционная» политика памяти в Грузии: политические элиты и средства массовой информации в формировании «кавказского» в «мемориальном каноне»
Грузинская историческая политика в механизмах своей реализации имеет много общего с аналогичными европейскими явлениями. По мнению политического аналитика Маки Хуцишвили, «в Центральной и Восточной Европе, в странах бывшего коммунистического блока и постсоветских странах политике памяти придается большое значение… что выдвигает на первый план основные элементы коллективной памяти… в коллективной памяти большое значение придается событиям: как положительным, так и отрицательным»1. Аналогичная логика влияет и на отбор для интеграции в канон памяти событий и в грузинской политике памяти. Среди таких системообразующих компонентов памяти, одновременно положительных и отрицательных, особую роль играют «кавказские» нарративы, которые в зависимости от ситуации могут содействовать как виктимизации, так и глорификации Грузии.
Грузинская историческая политика использует разные стратегии актуализации кавказских нарративов в мемориальном каноне, но в сравнении с другими образами их роль на современном этапе не столь заметна. Джимшер Рехвиашвили, грузинский политический эксперт, комментируя особенности исторической грузинской политики, полагает, что до 2012 г. «правительство Грузии проводило политику памяти, которая была энергичной и во многих случаях чрезмерно радикальной»2, но радикализм ограничивался пересмотром коммунистического наследия, декоммунизацией и развитием в общественных пространствах нарратива о «советской оккупация», что в значительной степени маргинализировало «кавказское» в формировании нового мемориального канона. Двумя основными тенденциями привлечения внимания к кавказскому пласту в исторической памяти является нарративизация и визуализация.
Нарративизация исторической памяти, которая нередко сводится к банальным констатациям уникальности кавказской исторической и культурной мозаики3, проявляется в продвижении тех нарративов, актуализирующих «кавказское», которое соотносятся с современной политической и идеологической конъюнктурой. Акторы «кавказской» исторической политики в Грузии разнообразны. Несмотря на то, что в XIX–XX вв. «историки внесли весомый вклад в развитие национализма и заложили его моральный и интеллектуальный фундамент в своих странах» [32, p. 60], в начале XXI в. монополия профессиональных историков была подорвана политиками, которых прошлое интересовало почти исключительно в его прикладном и политическом значении в качестве одно из механизмов легитимации их собственной власти.
Среди форматоров современного мемориального канона в грузинской политике памяти в отношении Кавказа особая роль принадлежит президенту страны Саломе Зурабишвили. Например, 16 декабря 2018 г. в своей инаугурационной речи она актуализировала особую роль Сакартвело на Кавказе, подчеркивая, что регион был сферой политических интересов Грузии в прошлом, так как «царь Иракли боролся за развитие и единство страны, создав современную грузинскую армию, заложив основы европейского государства… но планы царя Иракли, связанные с созданием современного государства, установлением новых стандартов, постановкой страны на европейский путь, рухнули. Развитие нашей страны остановилось… Грузии заблокировали создание независимого, единого, сильного государства. Это было связано со многими причинами, в том числе с умыслом противника»4. Таким образом, Кавказ в грузинской исторической политике памяти превращается в коллективное «место памяти», которое одновременно актуализирует как особую миссию Грузии, так и ее виктимизацию, что в одинаковой степени важно для современного политически мотивированного использования истории в публичных пространствах.
Вместе с тем, С. Зурабишвили, актуализируя «кавказские» мотивы в современном мемориальном каноне Грузии, не только указывает на то, что «мирный и стабильный Кавказ нужен не только региону, но и всему миру». Этот нарратив связан с попыткой ревизии как сложившейся политической ситуации в регионе, так и восприятия «кавказского» в исторической памяти, так как, по мнению президента Грузии, страна «должна укрепить свои позиции на Кавказе, вернувшись к нашей исторической роли в этом регионе и взяв на себя эту ответственность»5. Продвижение именно таких нарративов актуализирует то, что политика памяти в большей степени соотносится с политической борьбой, а достижения историографии используются лишь в той степени, в которой они могут содействовать легитимации правящих элит и их версий исторического прошлого.
Поэтому, вероятно, прав современный грузинский историк З. Андроникашвили, который подчеркивает, что «именно политика памяти определяет, кого помнит государство, а кого нет»6. Трансплантируя это допущение в современный кавказский пласт исторической политики, мы вынуждены констатировать, что «кавказское» в актуальном националистическом воображении и, как результат, в национальной памяти не в состоянии конкурировать с другими нарративами, идеологическое и политическое содержание которых более очевидно, так как они поставлены на реализацию потребностей элит, связанных с консолидацией общества.
В рамках политики памяти, участниками которой становятся лидеры Грузии, «кавказское» прочитывается крайне утилитарно, подчиняясь, например, идее европейской интеграции и толерантности, так как именно с пребыванием Сакартвело в рамках кавказского культурного и политического пространства связывается с тем, что грузины «обязательно войдут в Европу со своими ценностями, идентичностью, культурой. Грузины могут помочь миру древней, богатой, уникальной культурой, основанной на христианстве. Грузинская цивилизация может смело утвердить свое место в мире… Наша идентичность исторически проявляется в толерантности. Традиция мирного сосуществования с людьми разного происхождения и верований сохранялась веками… Мы должны укреплять эту традицию, чтобы подавать пример. Нам необходимо повышать осведомленность о грузинской культуре и самобытности на международной арене»7. Продвигая подобные нарративы в рамках политики памяти, элиты, вероятно, полагают, что «современные политические и идеологические сражения могут быть выиграны благодаря подчеркиванию определенных и замалчиванию других моментов истории» [33, p. 531], примером чего являются ритуальные, политически и идеологически мотивированные упоминания прошлого. Таким образом, кавказские нарративы в современной политике памяти подчинены решению нескольких задач, включая не только актуализацию особого места Грузии в контексте Кавказа.
Политические элиты Грузии, вовлеченные в формирование мемориального канона как формы функционирования памяти [34], воспринимают страну как популяризатора своей особой версии кавказской культурной модели, что ставит под сомнение права других государств региона, в первую очередь – России, быть «кавказскими» и экспортировать кавказские образы, которые в рамках грузинской исторической политике воспринимаются как искаженные и авторитарные. После кризиса и падения коммунизма, по мнению украинского историка Я. Грыцака, не только «историки оказались вовлеченными в поиск новых парадигм для написания истории» [35, p. 231], но и политики осознали потенциал исторического воображения для упрочения собственной власти, что, например, в Грузии выразилось в идеологически мотивированных интерпретациях прошлого, включая «кавказские» нарративы. Эта идея «кавказского» в исторической политике Грузии другими интеллектуалами воспринимается в несколько иной перспективе. Например, Корнели Какачиа пытается подвергнуть мемориальный канон ревизии, деконструировав в нем именно «кавказское», как тормозящее политические и экономические изменения, полагая, что «Кавказ – несостоявшийся регион и в реальности у него нет перспективы стать политическим регионом. На этом фоне Грузия в последнее время пытается “убежать” с Кавказа, то есть “убежать” стратегически, а это значит, мы пытаемся, по сути, стратегически покончить с постсоветским пространством, а также с Южным Кавказом»8.
B этом контексте историческая политика в Грузии одновременно актуализирует ее постколониальную направленность, а также попытки части сторонников радикальной эпистемологии переформатировать память через деконструкцию некоторых ключевых понятий, включая «Кавказ» и «кавказское», унаследованных грузинскими интеллектуалами от российских и советских форматоров пространства, которые вообразили Кавказ в качестве периферийного и фронтирного региона, что существенно влияло на восприятие статуса Грузии, снижая ее историческую роль в регионе и редуцируя до одного из элементов пространства, конструированного извне.
Перформативный поворот в актуализации «кавказского» в грузинской исторической политике
Не менее важными акторами подобной «проработки прошлого» являются в одинаковой степени грузинские средства массовой информации и музеи, которые, став активными участниками исторической политики, вовлечены как в ревизию, так и реинтерпретацию прошлого с целью формирования такого его образа, который в одинаковой степени консолидировал бы общество и удовлетворял запросы элит как заказчика компромиссного «мемориального канона» в частности и исторической памяти в целом. Что касается «кавказского» в политике памяти, то оно представлено относительно широко, присутствуя не только в форме нарративов, но и визуальных образов, так как другие концепции актуализации исторической памяти, например – монументализация9, к кавказским нарративам оказались малоприменимы.
Кризис и падение коммунизма «представляло собой дезинтеграцию официальной коллективной памяти и артикуляцию ее многочисленных неофициальных нарративов» [36, p. 180], которые в случае с Грузией актуализировали различные измерения прошлого, включая восприятие «кавказского» как элемента коллективной памяти. Визуализация «кавказского» в мемориальном каноне призвано подчеркнуть его особенности в картвельских культурных и исторических контекстах10. Формой визуализации «кавказского» в мемориальном каноне Грузии стали попытки умеренной этнографизации моды11, продвижения этнических мотивов в индустриях общества потребления. В этом контексте логично предположить, что одной из особенностей политики памяти в Грузии стала ее большая перформативность в сравнении с исторической политикой в Восточной и Центральной Европе. Именно поэтому грузинские участники «проработки прошлого» склонны применять визуальные методы.
В визуализации «кавказского» пласта в политике памяти Грузии активное участие принимают и такие «традиционные» участники «проработки прошлого» как музеи, несмотря на то, что их авторитет в формировании мемориального канона поставлен под сомнение средствами массовой информации. В 2021 г. Литературный Музей выступил в качестве инициатора выставки фотографий Адольфа Дира12, ставшей фактически попыткой визуализировать исторические формы культурного и этнографического разнообразия Грузии и ее место на Кавказе. Решению аналогичных задач был подчинен и фестиваль «ერთიანი კავკასია» (ertiani k’avk’asia) или «Единый Кавказ», проведенный в 2019 г13. Фестиваль стал еще одной формой «проработки прошлого», направленной на форматирование мемориального канона путем большей визуализации «кавказского» измерения как идеи пребывания Сакартвело в едином культурном пространстве с другими группами региона в грузинской исторической памяти.
В аналогичной логике в Грузии выдержаны и другие публичные акции, призванные актуализировать «кавказское» в исторической памяти, что, например, относится к акциям 2019 г. на территории монастыря Гареджи, которые прошли под лозунгами «გარეჯი საქართველოა და კავკასია ჩვენი სახლია» («gareji sakartveloa da k’avk’asia chveni sakhlia»14), то есть «Гареджи – это Грузия, а Кавказ – наш дом». Подобные публичные акции в рамках политики памяти в современной Грузии направлены на решение политических задач, так как участники мероприятий на территории Гареджи15 были в большей степени озабочены не визуализацией роли монастыря в грузинском историческом контексте, а интеграцией образов, связанных с монастырем, в националистический дискурс.
По мнению польского историка Р. Трабы, «когда “пишется” коллективная память, она отражает определенную политическую и общественную конъюнктуру, а не только повествует о давно минувших событиях» [37, c. 52]. В случае с грузинской исторической политикой кавказские нарративы не столько отражали события прошлого, сколько реагировали на идеологический запрос политических элит. «Кавказские» нарративы в грузинской политике памяти актуализируются при помощи публичных акций, организаторами которых выступают активисты, вовлеченные в реализацию исторической политики. В марте 2019 г. в Тбилиси перед посольством Исламской Республики Иран прошел митинг, участники которого выступили против утверждения иранских политиков и деятелей культуры, что 200 лет назад Кавказ в целом и Грузия в частности были частью иранского политического пространства. Комментируя «мемориальный» грузино-иранский конфликт 2019 г., Димитри Лорткипанидзе, современный политический эксперт, подчеркивал, что «когда такое заявление делает высокопоставленный деятель, президент теократического государства, это – призыв к собственному народу наступать, так как иранское государство сделает все возможное для содействия экспансии»16. В этом контексте политика памяти актуализирует подчиненную роль истории в решении политических задач, когда интерпретации фактов прошлого фактически оказываются частью государственного механизма, направленного на продвижение интерпретаций истории, которые в большей степени соотносятся с предпочтениями политических элит.
«Собственный» Кавказ Сакартвело: абхазские и осетинские нарративы между национализмом «компаниями примирения»
В рамках современной грузинской политики памяти особое внимание уделяется проблемам «собственного» утраченного Кавказа, редуцируемого до Абхазии и Южной Осетии, которые в официальном идеологическом дискурсе определяются как «ოკუპირებული ტერიტორიები» (ok’up’irebuli t’erit’oriebi), т.е. «оккупированные территории». Функционирование именно этих нарративов в современной исторической политике подчинено решению преимущественно политических задач, что содействует инструментализации истории, актуализации ее сервилистских ролей в отношении элит, что существенно влияет на эрозию общей исторической культуры, так как превращает исторические исследования в часть государственного механизма.
Доминирование такого подхода в современной Грузии существенно затрудняет, замедляет или вообще делает невозможной «проработку прошлого» в формах, сопоставимых с послевоенными западноевропейскими интеллектуальными практиками, которые привели к признанию вины и осознанию многосторонней ответственности за формирование нового мемориального канона, который в одинаковой степени учитывал бы нарративы различных участников «мемориальной культуры». Поэтому попытки некоторых интеллектуалов запустить механизм «ბოდიშის კამპანია» («bodishis k’amp’ania»), т.е. «компании примирения»17 в отношения абхазов или осетин остаются маргинальными и неудачными, а дефиниция «გაუცხოებული საზოგადოება» («gautskhoebuli sazogadoeba») или «отчужденное общество»18 остается одной из системообразующих характеристик отношений между грузинами и их кавказскими соседями.
Подобные «кавказские» нарративы имеют почти исключительно символическое значение для современной грузинской политики памяти, так как, по мнению современного политического комментатора Зураба Бендианишвили, «от Грузии ничего не зависит»19 на современном Кавказе. Поэтому грузинским интеллектуалам остается только рефлексировать об исторической роли Грузии на Кавказе, что в значительной степени мифологизирует «кавказское» в актуальной грузинской культуре памяти. Поэтому в рамках современного грузинского исторического воображения сформировался особый дискурс, призванный при помощи формирующих его нарративов описывать абхазские и южноосетинские образы.
Пространство современной Южной Осетии в грузинской исторической памяти описывается двумя терминами – «ცხინვალის რეგიონი» (tskhinvalis regioni) или Цхинвальский регион и «სამხრეთ ოსეთი» (samkhret oseti) или «Южная Осетия», хотя в рамках мемориального канона доминирует точка зрения, что «этот термин был придуман непосредственно предателями или врагами Грузии»20. Несмотря на то, что, по мнению немецкой исследовательницы культуры памяти Ю. Шеррер, «сама природа плюралистических обществ предполагает формирование в них различных и даже противоречащих друг другу толкований прошлого» [38], грузинский социум в отношении «кавказских» нарративов, наоборот, не проявил склонности к фрагментации, предпочтя консолидироваться вокруг восприятия «собственного Кавказа» на основе национализма. Образы Южной Осетии и Абхазии занимают стабильное место в современном «мемориальном каноне», став общим местом и политическим ритуалом декларирования территориальной целостности для грузинской исторической памяти, в связи с чем в грузинском информационном дискурсе доминирует восприятие этих кавказских регионов как пространства для «ежедневного плебисцита», так как «ни один грузинский политик не посмеет сказать, что возвращение Абхазии и «Южной Осетии» не имеет смысла, давайте забудем эти территории»21, что свидетельствует о значительной степени политизации и идеологизации интерпретаций этих нарративов в исторической памяти Грузии.
Подобная точка зрения доминирует, но периодически интеллектуалы пытаются пересмотреть основные ее положения, что, например, в 2021 г. сделал известный грузинский историк Заал Андроникашвили. По его мнению, «кавказские» нарративы сохранились в исторической памяти, но модель ее функционирования, в рамках которой они заметны, с самого начала развивалась как селективная. Комментируя 30-летие начала конфликта в Южной Осетии, З. Андроникашвили 5 января 2021 г. подчеркивал, что «в этот день 30 лет назад началась Цхинвальская война. Эта дата исчезла из грузинской исторической памяти. Это неудивительно: существует два основных режима наррации о грузинской истории: героический и военный. Событие, которое не в одну из них не укладывается, обречено на забывание»22. Развивая интерпретацию З. Андроникашвили, логично предположить, что такая идеологически и политически мотивированная форма амнезии содействует как вытеснению из памяти нации одних событий, стимулируя мифологизацию других.
В рамках современной грузинской политики памяти Южная Осетия и Абхазия воображаются как исторически картвельские регионы, интегрированные в исторические процессы на территории Грузии в целом. Ответственность за обострение межэтнических отношений в рамках современного мемориального канона грузинской идентичности возлагается на Россию. Поэтому участники исторической политики настаивают на том, что «в начале 1990-х годов Российская Федерация использовала подготовленную при советской власти почву, основной методологией которой было разжигание межнациональной розни в созданных Советским Союзом автономных районах Грузии, а также формирование местной сепаратистской элиты»23. В этом контексте становится заметной сервилистская функция политики памяти в механизме легитимации стратегии, избранной правящими элитами.
Этноцентричные прочтения «кавказского» в политике памяти и попытки их ревизии
В грузинской политике памяти доминирует восприятие Южной Осетии, основанное на отрицании ее существования в качестве отдельного субъекта истории. Поэтому, грузинские средства массовой информации как активные участники исторической политики, настаивают, что «Южной Осетии в природе не существует… этот этнический термин был чужд крупнейшим кавказоведам»24. Грузинская модель исторической политики функционирует в рамках конфронтационной модели. Именно поэтому такая логика элит вынуждает конструировать «историю и память, прежде всего, как арену политической борьбы с внешним и внутренним противником» [39]. В рамках подобной модели исторической памяти доминируют иные географические дефиниции, которые в мемориальном грузинском каноне обозначают регион как «შიდა ქართლი» (shida kartli) или «Шида Картли» и «ჩრდილო ქართლი» (chrdilo kartli) или «Северная Картли». Генезис и утверждение именно такой традиции наименования территорий, соотносимых в рамках официальной точки зрения почти исключительно с картвельским пространством, привел к тому, что в политике памяти «кавказские» нарративы оказались интегрированы в язык вражды.
Именно поэтому в обществе утвердилось представление о том, что «единственный способ справиться с пожеланиями абхазов и осетин – это сила, а не, например, переговоры или референдум»25. В условиях доминирования именно такого восприятия истории этнических групп Кавказа южноосетинские нарративы в современной грузинской исторической памяти [40] активно используются для продвижения образа Грузии как жертвы [41], что виктимизирует грузинскую историю в целом: «существовавший “замороженный конфликт” сменился полномасштабной военной агрессией и оккупацией Российской Федерацией в августе 2008 года.. в результате войны было сожжено и полностью разрушено около пятидесяти грузинских сел в Цхинвальском районе… правительство Грузии потеряло контроль над этими районами, включая Ахалгорский район. До 130 000 человек, в основном этнические грузины, были выселены из своих домов и подвергнуты этническим чисткам»26.
Подобные нарративные стратегии содействуют мифологизации истории. Поэтому представители профессионального исторического сообщества склонны «обвинять общество в инфантилизме, в забвении истории, в то время как отсутствие памяти и неразвитость институтов в совокупности ослабляют государство»27. В такой ситуации мемориальный канон оказывается чрезвычайно ограниченным и неполным, что актуализирует одни моменты исторической памяти, маргинализируя другие. Нарративы насилия и жертвенности прочно укоренились в грузинском мемориальном каноне.
В связи с этим З. Андроникашвили подчеркивает, что не только у грузин, но и их кавказских соседей, абхазов и осетин, «была (и есть) общая интеллектуальная и ценностная база, но они используют эти ценности и аргументы друг против друга. Это – история угнетения меньшинств, но она не изучена даже на уровне устных историй, и никого это не волнует»28. Таким образом, З. Андроникашвили фактически ставит под сомнение доминирующий в современной грузинской исторической политике мемориальный канон, указывая как на необходимость, так и на продуктивность его ревизии в направлении фрагментации и признания одновременного сосуществования множественных параллельных исторических памятей.
Выводы
В актуальной грузинской политике памяти логика развития и функционирования «кавказского» подчинена решению идеологических задач, связанных с противостоянием грузинской и российской исторической памяти. Анализируемые образы показывают, что они используются в одинаковой степени для формирования и продвижения образа Грузии как жертвы, а России – угрозы и агрессора. В этой ситуации и примечателен тот политический язык, в который облекаются «кавказские» нарративы. Формально они продвигаются в рамках либерального дискурса, который фактически превратился в сферу доминирования националистического воображения.
Подобная мимикрия национализма под либерализм, с одной стороны, актуализирует значительный адаптивный потенциал националистического воображения, его способность формировать различные версии коллективной памяти, не ограничивая себя традиционными стратегиями воображения собственной идентичности и продвижения образов Другого. С другой стороны, такие интеллектуальные маневры грузинского общества указывают на его второстепенные роли и выполнение преимущественно сервилистских задач, связанных как с обслуживанием, так и с поддержанием возникшего мемориального канона, соотносящегося с идеологической конъюнктурой, потребностями и запросами правящих элит.
«Кавказские» нарративы являются важными символическими составляющими формирования и закрепления «мемориального канона» Грузии, политические элиты которой, утратившие контроль над частью исторически грузинских земель, будучи не в состоянии реинтегрировать их пространственно и территориально в состав грузинской государственности, ограничиваются конструированием «кавказских» нарративов в современные стратегии «проработки прошлого», в рамках которых они редуцируются до общих мест и своеобразных политических ритуалов современной грузинской идентичности.
Таким образом, политика памяти в Грузии в ее актуальных формах нуждается в дальнейшем изучении. Вероятно, представляется необходимыми дальнейшие исследования, направленные на анализ различных форм коллективной памяти, четкое разграничение мемориального пространства, выявление основных акторов исторической политики и их отделение от традиции академической междисциплинарной историографии. Вместе с тем, проблемы интеграции ученых в политику памяти и влияние средств массовой информации на программу академических штудий, а также направления визуализации памяти в рамках общества потребления также нуждаются в дальнейших исследованиях.
1 ხუციშვილი მ. რატომ არ გვაქვს მეხსიერების პოლიტიკა საბჭოთა ტერორთან მიმართებაში. Интернет-ресурс. Доступно по ссылке https://batumelebi.netgazeti.ge/news/317226/
2 რეხვიაშვილი ჯ. რას ნიშნავს სტალინის დაბრუნება საჯარო სივრცეში? Интернет-ресурс. Доступно по ссылкеhttps://www.radiotavisupleba.ge/a/31669142.html
3 ნოზაძე პ. კავკასიური მოზაიკა და ყარაბაღის ომის კავშირების რთული ქსელი. Интернет-ресурс. Доступно по ссылке https://www.radiotavisupleba.ge/a/30895457.html
4 ზურაბიშვილი ს. საინაუგურაციო სიტყვა (სრული ტექსტი). Интернет-ресурс. Доступно по ссылке https://www.radiotavisupleba.ge/a/29659012.html
5 ზურაბიშვილი ს. ჯარის იდეოლოგიური და პოლიტიკური ნიშნით დაყოფა სრულიად მიუღებელია. Интернет-ресурс. Доступно по ссылке https://www.radiotavisupleba.ge/a/29658990.html
6 რეხვიაშვილი ჯ. რას ნიშნავს სტალინის დაბრუნება საჯარო სივრცეში? Интернет-ресурс. Доступно по ссылке https://www.radiotavisupleba.ge/a/31669142.html
7 ზურაბიშვილი ს. საინაუგურაციო სიტყვა (სრული ტექსტი). Интернет-ресурс. Доступно по ссылке https://www.radiotavisupleba.ge/a/29659012.html
8 კაჭკაჭიშვილი თ. საქართველოს რეგიონალური იდენტობა, საფრთხეები და ნატოსა და ევროკავშირის გაცხადებული პოლიტიკა. Интернет-ресурс. Доступно по ссылке https://www.radiotavisupleba.ge/a/saqartvelos-regionuli-identoba/28977026.html
9 რეხვიაშვილი ჯ. როგორ ემხობიან ძეგლები საქართველოში. Интернет-ресурс. Доступно по ссылке https://www.radiotavisupleba.ge/a/rogor-emkhobian-dzeglebi-sakartveloshi/30667942.html
10 ქევანიშვილი ე., ბეგიაშვილი თ. საქართველო და კავკასია ადოლფ დირის ფოტოებში. Интернет-ресурс. Доступно по ссылке https://www.radiotavisupleba.ge/a/31298187.html
11 ქევანიშვილი ე., კაპანაძე გ., ბეგიაშვილი თ., გოგუა გ. სვანური სამკაულის ახალი სიცოცხლე. Интернет-ресурс. Доступно по ссылке https://www.radiotavisupleba.ge/a/svanuri-samkauli/28819163.html
12 ქევანიშვილი ე. კავკასიის გამქრალი მრავალფეროვნება ადოლფ დირის ფოტოებში. Интернет-ресурс. Доступно по ссылке https://www.radiotavisupleba.ge/a/k’avk’asiis-gamkrali-mravalperovneba-adolp-dirris-pot’oebshi/31290765.html
13 გელაშვილი ნ. “ეს არის ფესტივალის იდეაც, რომ ჩვენ რაღაც სამშვიდობო ლოზუნგები კი არ ვავრცელოთ სცენიდან, არამედ ეს მოხდეს უმტკივნეულოდ, თავისთავად”. Интернет-ресурс. Доступно по ссылке https://www.radiotavisupleba.ge/a/elene-babak’ishvili-pest’ivalze-one-caucasus/30109812.html
14 დავით გარეჯის მოვლენებთან დაკავშირებით პეტიცია გავრცელდა. Интернет-ресурс. Доступно по ссылке https://www.radiotavisupleba.ge/a/29967285.html
15 დავით გარეჯის ტერიტორიაზე მიმდინარე აქციის მონაწილეები ჩიჩხიტურისკენ მსვლელობას გეგმავენ. Интернет-ресурс. Доступно по ссылке https://www.radiotavisupleba.ge/a/29967021.html
16 ლორთქიფანიძე დ. ირანის საელჩოსთან საქართველოს დამცირება გავაპროტესტეთ. Интернет-ресурс. Доступно по ссылке https://www.radiotavisupleba.ge/a/29849722.html
17 გვახარია გ. კავკასია - შერიგების სირთულე. Интернет-ресурс. Доступно по ссылке https://www.radiotavisupleba.ge/a/citeli-zona/27949827.html
18 ხარაძე ნ. ისტორიის დევნას ახალი შეცდომები არ უნდა მოჰყვეს. Интернет-ресурс. Доступно по ссылке https://www.radiotavisupleba.ge/a/mekhsierebis-politika-da-gautskhoeba/28118557.html
19 გელაშვილი ნ. “მტერი თავისი ქმედებებით ცდილობს, რომ საქართველოს მოსახლეობამ მომავლის რწმენა დაკარგოს...”. Интернет-ресурс. Доступно по ссылке https://www.radiotavisupleba.ge/a/mt’eri-tavisi-kmedebebit-tsdilobs-rom-sakartvelos-mosakhleobam-momavlis-rts’mena-dak’argos-/30378801.html
20 ნოზაძე მ. რატომ იყენებენ პოლიტიკოსები ტერმინს „სამხრეთ ოსეთი“. Интернет-ресурс. Доступно по ссылке https://for.ge/view/25221/ratom-iyeneben-politikosebi-termins-samxreT-oseTi.html
21 რატომ შეიძლება გადაიქცეს საქართველო დიდ “იუჟნაია ოსეტიად”. Интернет-ресурс. Доступно по ссылке https://for.ge/view/31016/ratom-SeiZleba-gadaiqces-saqarTvelo-did-iuJnaia-osetiad.html
22 ანდრონიკაშვილი ზ. ცხინვალის ომი - 30 წლის შემდეგ. Интернет-ресурс. Доступно по ссылке https://www.radiotavisupleba.ge/a/31034619.html
23 ოკუპირებული ტერიტორიები. Интернет-ресурс. Доступно по ссылке http://shidakartli.gov.ge/ge/pages/index/47
24 ნოზაძე მ. რატომ იყენებენ პოლიტიკოსები ტერმინს „სამხრეთ ოსეთი“. Интернет-ресурс. Доступно по ссылке https://for.ge/view/25221/ratom-iyeneben-politikosebi-termins-samxreT-oseTi.html
25 ანდრონიკაშვილი ზ. ჩვენ და აფხაზები. Интернет-ресурс. Доступно по ссылке https://www.radiotavisupleba.ge/a/blog-zaal-andronikashvili-chven-da-apkhazebi/26642248.html
26 ოკუპირებული ტერიტორიები. Интернет-ресурс. Доступно по ссылке http://shidakartli.gov.ge/ge/pages/index/47
27 გელაშვილი ნ. საბჭოთა ოკუპაციის კვლევა არ ჯდება საზოგადოების ტრავმულ ნარატივში. Интернет-ресурс. Доступно по ссылке https://www.radiotavisupleba.ge/a/davit-jishk’ariani-ok’up’atsiis-ist’oriasa-da-ats’mq’oze/29789250.html
28 ანდრონიკაშვილი ზ. ცხინვალის ომი - 30 წლის შემდეგ. Интернет-ресурс. Доступно по ссылке https://www.radiotavisupleba.ge/a/31034619.html
Maksym V. Kyrchanoff
Voronezh State University
Author for correspondence.
Email: maksymkyrchanoff@gmail.com
ORCID iD: 0000-0003-3819-3103
SPIN-code: 6547-1027
Scopus Author ID: 57193934324
ResearcherId: B-8694-2017
Russian Federation, 394000, Voronezh
Universitetskaja square 1
Doctor of Historical Sciences, Associate Professor
- Švaříčková Slabáko R. Family Memory: Practices, Transmissions and Uses in a Global Perspective. L. – NY.: Routledge, 2021. 245 p.
- Memory Cultures: Memory, Subjectivity and Recognition / ed. S. Leydesdorff. L. – NY.: Routledge, 2017. 240 p.
- Radstone S. Memory, History, Nation: Contested Pasts. L. – NY.: Routledge, 2017. 282 p.
- Skultans V. The Testimony of Lives: narrative and memory in post-soviet Latvia. L. – NY.: Routledge, 1997. 217 p.
- Wagner A., Marusek S. Flags, Color, and the Legal Narrative: Public Memory, Identity, and Critique. Berlin: Springer, 2021. 745 p.
- Kirchanov MV. Fantasticheskiy kinematograf kak odna iz form lokalizatsii voyennykh obrazov v amerikanskoy massovoy kul’ture [SciFi films as the form of localization of military images in American mass culture]. Gumanitarnyi vektor [Humanitarian vector]. 2021;16(5): 77-86. (In Russ)
- Kyrchanoff MW. Historical grand narratives of the Seven Kingdoms of Westeros: from invention to deconstruction of a traditional Medieval historiography. Journal of Frontier Studies. 2018,1:17- 46.
- Kyrchanoff M.W. Inventing nostalgia for the “golden age” of the national Middle Ages and fear of the future: nationalism, memory and phobias of medievalism and futurism in Japanese mass culture. Galactica Media: Journal of Media Studies. 2020; 4:112-151.
- Simine S. Memory Boom, Memory Wars and Memory Crises. Mediating Memory in the Museum: Trauma, Empathy, Nostalgia. Palgrave Macmillan Memory Studies / ed. S. Simine. L.: Palgrave Macmillan UK, 2013:14 – 19. doi: 10.1057/9781137352644_3.
- Shapinskaya EN. Images of the past in the culture of postmodernism: representation or pastiche? [Obrazy proshlogo v kul’ture postmodernizma: reprezentatsiya ili pastish?]. Kul’tura i iskusstvo [Culture and Art]. 2012;3:58-63. (In Russ)
- Shnirel’man V.A. Sotsial’naya pamyat’ i obrazy proshlogo [Social memory and images of the past]. Novoye proshloye / The New Past. 2016;1:100-129. (In Russ)
- Halbwachs M. Les Cadres sociaux de la mémoire. Paris: Félix Alcan, 1925.
- Nora P. Rethinking France: Les Lieux de mémoire. Vol. 4: Histories and Memories. Chicago: University of Chicago Press, 2010.
- Assmann A. From Collective Violence to a Common Future: Four Models for Dealing with a Traumatic Past. Conflict, Memory Transfers and the Reshaping of Europe / ed. H. Gonçalves da Silva. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2010:8-23.
- McPherson J. Revisionist Historians. Perspectives on History. 2003; 41(6):1.
- Wertsch J. Responses to panellists› comments on How Nations Remember: A Narrative Approach [Otvety na zamechaniya uchastnikov diskussii po povodu knigi «Kak natsii pomnyat: narrativnyy podkhod»]. Istoricheskaya ekspertiza [Historical Expertise]. 2021; 3:90-95. (In Russ)
- Kirchanov MV. When nations remember: what, where and how. Notes by a Cultural Anthropologist on the Margins of James Wertsch’s How Nations Remember: A Narrative Approach [Kogda natsii vspominayut: chto, gde i kak. Zametki kul’turnogo antropologa na polyakh knigi Dzheymsa Vercha «How Nations Remember: A Narrative Approach»]. Istoricheskaya ekspertiza [Historical Expertise]. 2021; 3:50-63. (In Russ)
- Semenenko IS. The Politics of Memory in Europe and the European Politics of Memory: Narratives and Landmarks [Politika pamyati v Yevrope i yevropeyskaya politika pamyati: narrativy i oriyentiry]. Dnevnik Altayskoy shkoly politicheskikh issledovaniy [Diary of the Altai School of Political Studies]. 2020;36:23-31. (In Russ)
- Kirchanov MV. “Politics of the past” in modern Georgia, or how the media and public politicians form collective ideas about the past [“Politika proshlogo” v sovremennoy Gruzii, ili kak SMI i publichnyye politiki formiruyut kollektivnyye predstavleniya o proshlom]. Dialog so vremenem [Dialogue with past]. 2016;56:374-395. (In Russ)
- Kirchanov MV. Historical policy in the national republics of the Caucasus: commemorative practices as invented traditions [Istoricheskaya politika v natsional’nykh respublikakh Kavkaza: kommemorativnyye praktiki kak izobretennyye traditsii]. Elektronnyi zhurnal “Kavkazologiya” [Electronic journal “Caucasus”]. 2020;1:219-236. doi: 10.31143/2542-212X-2020-1-219-236.
- Kirchanov M. The Caucasian and the Russian In contemporary Georgian nationalism. Central Asia and the Caucasus. 2013;14(4):101-109.
- Kirchanov MV. “Tskhinvali region” and “Autonomous Republic of Abkhazia” as “places of memory” and invented traditions in the modern Georgian political imagination (2018-2019) [“Tskhinval’skiy region” i “Avtonomnaya Respublika Abkhaziya” kak “mesta pamyati” i izobretennyye traditsii v sovremennom gruzinskom politicheskom voobrazhenii (2018-2019)]. Vestnik Udmurtskogo universiteta. Sotsiologiya. Politologiya. Mezhdunarodnyye otnosheniya [Bulletin of the Udmurt University. Sociology. Political science. International relationships]. 2020; 4(3):327-333. (In Russ)
- Nechaev DN., Leonova OV. Memorial Culture and Political Mythology: The Politics of Memory in the Sphere of Public Administration in Russia and the States of the Post-Soviet Space [Memorial’naya kul’tura i politicheskaya mifologiya: politika pamyati v sfere gosudarstvennogo upravleniya Rossii i gosudarstv postsovetskogo prostranstva]. Vestnik Povolzhskogo instituta upravleniya [Bulletin of the Volga Institute of Management]. 2021; 21(1):12-21. (In Russ)
- Markedonov SM. Holidays and memorable dates of the post-Soviet Transcaucasia: history and politics [Prazdniki i pamyatnyye daty postsovetskogo Zakavkaz’ya: istoriya i politika]. Neprikosnovennyy zapas. Debaty o politike i kul’ture [Emergency reserve. Debate about politics and culture]. 2015; 3:273-285. (In Russ)
- Kirchanov MV. Images of the Georgian Democratic Republic in the modern identity of Georgia [Obrazy Gruzinskoy Demokraticheskoy Respubliki v sovremennoy identichnosti Gruzii]. Historical, philosophical, political and legal sciences, cultural studies and art history. Questions of theory and practice. 2014; 42: 90-92. (In Russ)
- Kirchanov MV. The concept of “Soviet occupation” in modern Georgian nationalism [Kontsept “sovetskaya okkupatsiya” v sovremennom gruzinskom natsionalizme]. Historical, philosophical, political and legal sciences, cultural studies and art history. Questions of theory and practice. 2015; 51: 72-75. (In Russ)
- Kyrchanoff MW. Caucasian prisoners, or how Georgian intellectuals invent traditions and (re)produce meanings. Journal of Frontier Studies. 2020; 5(3): 72-114.
- Kirchanov MV. Georgian Intellectuals: Community Profile [Gruzinskiye intellektualy: profil’ soobshchestva]. Russian Journal of Nationalism Studies. 2020; 1: 58-102.
- Kirchanov MV. Dichotomy “Europe - Russia” as an invented tradition of modern Georgian nationalism [Dikhotomiya “Yevropa – Rossiya” kak izobretennaya traditsiya sovremennogo gruzinskogo natsionalizma]. International Analytics. 2021; 12(1): 35-54. (In Russ)
- Kirchanov MV. Intellectual Criticism of the Church in Modern Georgia as a Conflict of Elites [Intellektual’naya kritika tserkvi v sovremennoy Gruzii kak konflikt elit]. Questions of Elitology. 2021; 2(1): 113-146. (In Russ)
- Kirchanov MV. Corporality in the Land of Rustaveli: Misadventures and Journeys of the Georgian Body Between Romantic Kartvelian Nationalism and the Consumption of Mass Culture [Telesnost’ v strane Pustaveli: zloklyucheniya i puteshestviya gruzinskogo tela mezhdu romanticheskim kartvel’skim natsionalizmom i potrebleniyem massovoy kul’tury]. Corpus Mundi. 2021; 2(1): 14-67. (In Russ)
- Smith AD. Nationalism and the Historians. International Journal of Comparative Sociology. 1992;33(1 – 2):58-80.
- Coakley J. Mobilizing Past: nationalist images of history. Nationalism and Ethnic Politics. 2004;10(4):531-560.
- Abashidze Z., Sundua S., Karaia T. National narration and Politics of Memory in post-socialist Georgia. Slovak Journal of Political Sciences. 2017;17(2):222-240.
- Hrytsak Y. On Sails and Gales, and Ships sailing in various Direction: Post-Soviet Ukraine. Ab Imperio. 2004;1:229-254.
- Outhwaite W., Ray L. Modernity, Memory and Postcommunism. Social Theory and Postcommunism. L. – NY.: Blackwell Publishing Ltd, 2005:176-197.
- Traba R. Pol’skiye spory ob istorii v XXI veke [Polish disputes about history in the XXI century]. Pro et Contra. 2009;3-4:43-64.
- Scherrer J. Germaniya i Frantsiya: prorabotka proshlogo [Germany and France: working through the past]. Pro et Contra. 2009;3-4: 89-108.
- Miller A. Rossiya: vlast’ i istoriya [Russia: power and history]. Pro et Contra. 2009;3-4:6 -23.
- Karaia T. Memory Strategies in Contemporary Georgia. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne. 2017; 4: 5-22.
- Jonesa SF., Toria M. Rethinking Memory Sites and Symbolic Realms of Georgian National Identity. Caucasus Survey. 2021; 9(3):211-219.
Views
Abstract - 810
PDF (Russian) - 381
Article Metrics
Metrics powered by PLOS ALM