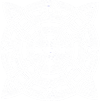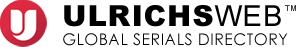ON ZOROASTRIANISM IN DAGESTAN
- Authors: Asatrian G.S.
- Issue: Vol 20, No 3 (2024)
- Pages: 683-696
- URL: https://caucasushistory.ru/2618-6772/article/view/17224
- DOI: https://doi.org/10.32653/CH203683-696
Abstract
This article explores possible traces of Zoroastrianism in Dagestan within the context of the pre-Islamic religious landscape of the North Caucasus. It presents methodological principles for identifying Middle Iranian lexemes with potential religious connotations in Dagestani languages, particularly Avar. The relevant data are presented as individual lemmas indicating, directly or indirectly, the spread of the religion of the Magi in Dagestan, apparently in a limited format. The study provides a detailed analysis of each lexeme related to the Middle Iranian period based on linguistic parameters. Additionally, it considers some Armenisms and Iranisms coming from Armenian and Scythian-Sarmatian milieus, though not directly related to Zoroastrianism. Meanwhile, if terms manifesting Christian influences have pronounced religious guise (such as designations of Christian objects and symbols, like the cross), and are thus easily identifiable, most purported Zoroastrian terms lack explicit religious markers, making them difficult to recognize without strict adherence to specific methodological principles. The hypothesis of a Zoroastrian past in Dagestan, despite the near-total absence of religious monuments with Zoroastrian attribution, is largely based on Emile Benveniste’s thesis conditioning a Zoroastrian inheritance for a particular ethnic community on the obligatory presence in the language of a number of diagnostic terms (or at least one of them) that reflect Zoroastrian dogma. The article also includes an appendix discussing the concept of the mosque in North Caucasian languages, providing materials and generalizations relevant to the main topic.
Вопросы, касающиеся религиозного ландшафта Северного Кавказа в прошлом, особенно на этнических территориях народов, исповедующих сегодня ислам, составляют без преувеличения наиболее актуальную и к тому же весьма интригующую область современного кавказоведения. Во многом благодаря усилиям северокавказских учёных к настоящему времени создана внушительная библиография по всему спектру проблем этой многоаспектной тематики – от духовной культуры, мифологии и ранних форм религиозных представлений горцев Кавказа, засвидетельствованных в археологических находках и в фольклоре, от примитивных культов, народных поверий, языческих пантеонов и пандемониум и до следов христианства, ясно прослеживаемых в регионе в виде останков культовых сооружений, надписей и соответствующей терминологии в местных языках (см., например, следующие работы, снабженные обширными библиографиями вопроса [1–8], о христианстве в Дагестане см. [9; 10], общий обзор языческого наследия Кавказа см. [11].
Что же касается возможного присутствия зороастризма в религиозной палитре Северного Кавказа, в частности, Дагестана в период до проникновения христианства или параллельно с ним, то, насколько мне известно, по этой теме, за исключением немногочисленных работ (см. ниже), ничего существенного ни зарубежом, ни в российском кавказоведении опубликовано не было. Более того, собственно, проблема до сих пор не была четко сформулирована. Существует лишь расплывчатая идея, никем не оспоренная, но и ничем не подтвержденная, что коль скоро зороастризм (в каких-то своих проявлениях) существовал в Армении, Грузии и Кавказской Албании до христианизации этих стран, то, соответственно, он не мог каким-либо образом не коснуться и Северного Кавказа. При этом, данное вполне логичное и, судя по всему, верное умозаключение, по сути, лишено фактологической базы. Можно смело говорить об отсутствии каких бы то ни было достоверных данных – археологических, исторических и проч., – за исключением единственного обнаруженного до сих пор несомненно зороастрийского памятника – скального погребального комплекса вблизи Дербента, начало функционирования которого восходит к позднесасанидскому времени [12], и отдельных отзвуков попыток внедрения маздаизма на Северном Кавказе во времена Сасанидского царя Хосрова Ануширвана (VI в.) сохранившихся в арабо-персидской историографии, например, у историка IX века Абу Али Мискавая ал-Рази [13, р. 102-103]. Вот в чем, собственно, и кроется причина неразработанности “зороастрийской” тематики в кавказоведении.
Несмотря на крайную скудость фактологической базы, тем не менее зороастрийская тематика в последние десятилетия активно разрабатывалась рядом дагестанских ученных, в частности можно упоминуть ценные публикации М.С. Гаджиева [12; 14; 15; 16] и М.М. Маммаева [17–19].
Впрочем, что касается стран Южного Кавказа, то, несмотря на наличие огромного корпуса разнородных источников, с превалированием у армян письменных материалов, а у грузин – археологических, до сих пор нет системного представления о формах и сути маздаистской религии, господствовавшей в Армении, Грузии и, соответственно, Кавказской Албании до принятия христианства (см. последнюю обобщающую работу по этой проблематике [20], см. также [21; 22].
1. Таким образом, к настоящему времени более или менее надежной основой для постулирования зороастрийского присутствия на Северном Кавказе могут стать лишь лингвистические данные, релевантная лексика, почерпнутая из местной языковой среды. При этом, если словарные единицы, свидетельствующие о христианстве, имеют ярко выраженную христианскую окраску (например, аварское xъanč, gъanč, xančI, xanč, даргинское kъanč, xъanž, лакское qqanč и лезгинское xač, xaš, прямо восходящие к арм. xač‘ ‘крест’, или чеченское žIara, ингушское žIar, каб. žor, адыг. ǰor и т.д., идущие из груз. ǰvari, также означающие ‘крест’)1 и потому сравнительно легко выделяемы, то большинство так называемых «зороастрийских» терминов, в силу отсутствия религиозной маркировки, распознаются с трудом, причем при строгом следовании определенным методологическим принципам.
1.1. Прежде всего следует определиться с понятием «зороастризм» – что мы подразумеваем, говоря о зороастризме в преломлении к Дагестану? Разумеется, трудно предположить наличие в крае существенных очагов древнеиранской религии, иначе сохранились бы, несомненно, материальные следы культовых сооружений, храмов огня и даже, возможно, пехлевийские надписи (Дербентский оборонительный комплекс и найденные там надписи на среднеперсидском не имеют отношения к культу.) Скорее всего, можно допустить лишь существование островков последователей зороастризма, причем с разной степенью интегрированности в весьма сложную догматическую систему религии магов, составлявших, наверное, причудливые контаминации с языческими или даже с христианскими элементами. Иначе говоря, «чистого» зороастризма на Северном Кавказе быть не могло (впрочем, ведь его не было и в странах Южного Кавказа). По всей видимости, речь может идти о некой синкретической форме народного зороастризма в южном Дагестане, прежде всего в Дербенте.
Как бы то ни было, по мнению Эмиля Бенвениста [25, р. 129], для утверждения о существовании в какой-либо этноязыковой среде зороастрийского наследия, l’héritage mazdéen, достаточно идентификации трех знаковых лексем: слóва, происходящего из протоиран. *i̯aźata- (ав. yazata-, ср.-перс. yazat, н.-перс. ēzad), а также терминов, восходящих к соответствующим иранским обозначениям рая и ада. Более того, Бенвенист считает наличие даже одного из них веским основанием для постулирования маздаистского прошлого, le passé mazdéen. В контексте Северного Кавказа, первое из трех отсутствует;2 а понятие «рай» повсеместно представлено разными адаптациями арабского ǰannat. Но зато «ад» в лексическом оформлении зороастрийской чеканки засвидетельствован (см. ниже, § 5.1).
В любом случае, тезис Бенвениста можно считать обоснованным, особенно если под «зороастрийским» наследием понимать элемент древнеиранской религии в широком смысле. В связи с этим, наличие одного из важных маздаистских маркеров, по определению Бенвениста, в купе с рядом среднеиранских лексических единиц, которые нам удалось идентифицировать в дагестанских языках, дает полное основание утверждать, что зороастрийские веяния – возможно, именно в Сасанидский период – охватывали если не весь Северный Кавказ, то, по крайней мере, Дагестан.
2. При выделении «зороастрийской» лексики в дагестанских языках, нужно, как я уже отметил, не выходить за рамки определенных методологических положений.
2.1. Предполагаемая форма должна быть рассмотрена лишь с учетом ее принадлежности к среднезападно-иранскому – среднеперсидскому или, в редких случаях (через ср.-перс.), парфянскому – словарю3. Термины, идущие из классического персидского (VII/ VIII – XV вв.) или новоперсидского (XVI – по сей день), даже если они указывают на зороастрийские реалии, не являются диагностическими. Очень хороший пример – авар. yariman «негодяй, бесстыжий (о муже)», которое Я.Г. Сулейманов [32] считает «лингвистическим свидетельством зороастризма» у аварцев, задумываясь лишь над «протезой y- перед гласным», не имеющей, по его мнению, однозначного объяснения. На самом же деле, мы имеем простой случай адаптации н.-перс. ahrīman (via *ayrīman и далее с метатезой yariman), проникшее в аварский через некое тюркское посредство. Более того, yariman в аварском – апеллятив, абсолютно лишенный культовой нагрузки, и обозначает только социально порицаемого персонажа. В зороастризме же Ахриман (ср.-перс. ’hlmnˈ/ ahriman, маних. ср.-перс. ’hrmy(y)n/ ahrimēn, арм. ahrmn, из авест. aŋra.mainiiu- < *ahra-mani̯u-) – прежде всего, враг или alter ego бога, Охрмазда, имеющий многочисленные манифестации и в других иранских религиозных течениях – зурванизме, манихеизме, в классической новоперсидской мифоэпической традиции (в Шахнаме) и т.д. (см. с подробной библиографией [33]). Так что авар. yariman ничего общего с собственно зороастризмом не имеет. Кстати, адаптация ahriman → yariman в тюркской среде могла происходить под влиянием yaman ‘беда, несчастье’.
Вообще нужно воздерживаться от упрощенного сопоставления и сравнения необычных (скорее, кажущихся необычными) для местной этноязыковой среды элементов духовной и материальной культуры с теми или иными зороастрийскими реалиями. Например, М.М. Маммаев в своей в целом фундаментальной монографии о Зирихгеране/ Кубачи [18], на основе данных исторических источников, существовавший у кубачинцев погребальный обряд расчленения усопшего и освобождения кости от мяса и мозга с дальнейшей отдачей их на съедение птицам считает отражением зороастрийской погребальной традиции [18, с. 103 ]. Разумеется, сбор очищенных костей в отдельных мешках, которые подвешивались в доме с указанием имени покойного, рассматривается автором как отдаленная параллель иранских оссуариев, астоданов (astōdān). Между тем, выставление трупов у зороастрийцев на возвышенности, холмах и скалистых образованиях, называемых дахма (daxma), вопреки распространенному мнению, не было повсеместным явлением – даже в сасанидское время ингумация широко практиковалась в Иране, хотя и считалась грехом, но не смертным (margarzān), в отличии от кремации, которая абсолютно исключалась в зороастрийской ортопраксии. Вообще, выставление трупов на съедение птицам с дальнейшим сбором костей не является ритуалом, исключительно универсальным для зороастризма. Отклонения от этой традиции сплошь и рядом наблюдались не только в прошлом, но и в поздних зороастрийских общинах. Кстати, авестийское слово daxma буквально означает «могила в земле»; оно восходит не к др.-иран. *daǰ- «сжигать» (как считалось со времен Хр. Бартоломе, а к иранскому *dafma- (< инд.-иран. *dhabhma- < и.-е. *dhm̥bh- «предавать земле, хоронить в земле)» [34]. Кстати, не всякое выставление трупа соответствовало зороастрийскому канону, например, подобный обряд в древней Арахосии (провинция Кандагар и бассейн реки Хельманд в современном Афганистане), называемый nasuspaiia- (букв. «выставление трупа»), строго порицается в первой главе Видевдада, почти равняясь nasā-nikanīh, то есть, ингумации [35]. Одним словом, упомянутый кубачинский погребальный обряд, описанный М.М. Маммаевым вполне мог быть исконным языческим, домусульманским пережитком. Далее, тот же автор усматривает зороастрийский след и в образе «красного быка» в фольклоре кубачинцев [18, с. 124], что опять-таки не может быть обосновано, равно как и отождествление термина агъру «яд» в языке кубачинцев [18, с. 125] с первой частью имени Ахримана в Авесте (см. выше). Сказанное, конечно, отнюдь не означает, что зороастризм не имел хождения в Зирихгиране, но приведенные М.М. Маммаевым факты и аргументы не могут считаться доказательными.
2.2. При выявлении среднеиранских/ «зороастрийских» элементов в языках Дагестана4 следует проявлять особую осторожность по отношению к словам, допускающим двоякую атрибуцию: так, под явными иранскими формами могут оказаться простые арменизмы, как в случае, например, с бежтинским kъarakIi «сливочное масло», заимствованное через грузинский из арм. karag «тж.» (ср.-иран. *karag, н.-перс. kara), или авар. bambak «хлопок, вата», из арм. bambak «тж.» (ср.-перс. рmbk / pambak,
н.-перс. pamba), но, скажем, дарг. vač(č)ar «торговля», в силу наличия среднеперсидских дериватов в диалектах, рассматривается нами, скорее, как иранизм (см. ниже, § 5.6), хотя вероятность заимствования из армянского полностью исключить нельзя. Между тем, в аваро-андийском обнаружено ценное свидетельство раннего армянского иранизма – обозначение «ведьмы», которое имеет не зороастрийскую, а явно христианскую основу (см. ниже, §3).
Другая категория иранизмов в кавказском языковом континууме, имеющая древние корни, но напрямую не соприкасающаяся с западно-иранским миром и, соответственно, с зороастризмом, – лексика, идущая из скифо-сарматских диалектов, что, естественно, составляет немалую долю в иранском сегменте северокавказского словаря. Вот два ad hoc выбранных примера, доселе не рассмотренных в литературе: 1) дарг. vagьigg (= vahigg) «ведьма, злое существо» [8, с. 238-240], восходящее, несомненно, к сарматской праформе *wayīk (< *ṷai̯u-ka-), ср. ос. wæjy/ug, персонаж в осетинской народной демонологии [27, р. 68-69]; и 2) авар. basi, basíko «бычок» (мн. basíkabi) [36, с. 55-56], из сарм. *wasīk (< протоиран. *ṷasa-/ индо-иран. *ṷat-sa- < и.-е. ṷet-(e)s-ó- «годовалый»), ср. ос. wæs «теленок» (см. подробно [37], s.v. bahī).
Кстати, сюда можно отнести и обозначение «терновник, колючка, колючее растение» в кавказских языках: авар. zaz (также žaž/ ژژ [38, с. 42], таб. zaz/ ʒaʒ, дарг. zanze, лезг. saz/ʒ, лак. ccac, ахв. žaža, чеч. zez, идущие, очевидно, из сарм. *zāz/(zăz), ср. осет. zaz «вид дерева», пашто zoz – из протoиран. *źaź- (< и.-е. *ĝeĝ(h)-), ср. пехл. z’z/ zāz «сорная трава», маних. ср.-перс. z’z/ zāz «тж.», н.-перс. žāž, курд. žāž, арм. žаž и т.д. (см. подробно [37], s.v. žāž). Или, например, цезское med «хмельной напиток», лезг. med «сироп» – очень возможно, из скиф.-сарм. *mad «мед» (ср. осет. my/ud «тж.») – вряд ли «странствующее культурное слово», как считал Абаев [27, р. 135], вкупе с рядом созвучных слов в кавказских языках.
2.2.1 В настоящем контексте заслуживает внимание еще один показательный пример следа ранних ирано-дагестанских культурно-языковых связей – наличие парадигмы ряда формально и семантически близких лексем в кавказско-армяно-иранском языковом пространстве, восходящих, очевидно, к единому источнику, если вообще это не обычный регионализм.
Речь идет об обозначении домового у некоторых аварских субэтнических групп – karž (или kaž). Каржи выступают преимущественно в виде змеи или иных зооморфных существ (козла, кошки, лягушки и т.д.), а также в образе бородатого старика. У хунзахцев они называются каржин (karžin). Другие обозначения: у бежтинцев cIin, генухцев kIin, дидойцев kIine (взятых, очевидно, у соседних дагестанских народов, ср. лак. kIini, дарг. kIune). Это – дух-покровитель дома, хранитель домашнего очага, семьи, скота и т.д. (см. подробно [39, с. 56-57; 40, с. 96-98; 41, с. 96-97; 8, с. 26]).
Судя по всему, собственно термин ka(r)ž в Дагестане имеет хождение только среди аварцев; у других северокавказских народов он не прослеживается (осет. параллель см. ниже).
В армянской же традиции, с самого зарождения письменности в V в., широко известна категория духов, злых и добрых, которые называются каджк (арм. k‘aǰ-k‘, мн. число) и обитают в ущельях, пещерах, глубоких оврагах, лесных чащах, руинах, покинутых домах и т. д. В классической литературе каджки приравниваются к дэвам, т.е. бесам, демонам, а в поздней армянской традиции они устойчиво выступают как разновидность чарков (арм. č‘ar-k‘, мн. число), т.е. злых существ. Несмотря на это, в единственном числе кадж (k‘aǰ) в армянском – довольно знаковый термин, имеющий целую гамму позитивных значений – «храбрый, хороший, добрый, честный, благочестивый, порядочный, красивый, могучий, сильный», а также «большой, гигантский, величественный, статный» и т. д.
Точно такое же сообщество духов с тем же почти названием, каджи (kaǰi), существует и у грузин и отмечено, как и у армян, в классической литературе и в эпической традиции (в «Витязе в тигровой шкуре» Ш. Руставели). Грузинские каджи – умные, но очень злые бесы, живущие в тех же местах, что и их армянские собратья [42, s. 133-134]. Ж. Дюмезиль считает kaǰi заимствованием из армянского [43, s. 34, 119]. Кстати, в югоосетинских говорах kaʒī «бес, дух преисподней» однозначно восходит к грузинской праформе, как отмечает В. И. Абаев [27, р.566-567].
Итак, с первого взгляда армянская форма выступает как источник грузинской, а последняя, – соответственно, аварской, тем более что переход -ǰ- в -ž- для аваро-андийского является регулярным (ср., например, алжан/alžan «рай», из араб. al-ǰannat, или жаваб/žavab «ответ», из араб. ǰawāb, жанавар/žanavar «зверь», из н.-перс. ǰānavar и т.д.). Конечно, как я отметил, мы могли бы иметь дело с простым регионализмом, так сказать, общей армяно-грузинско-кавказской изоглоссой. Но, кажется, это не тот случай, поскольку возможный очаг данного термина-обозначения категории демонических существ на Кавказе обнаруживается в иранском, точнее – в восточноиранском языковом пространстве. В западноиранском же ничего подобного мы не находим.
Речь идет о согд. krz (krẓ/krj/qrž)/karž в значении «чудо, магия», ср. композиты krzk’rk/karž-karē «чудесный», krzwrz/karž-warz «диво». В поисках объяснения этой согдийской лексемы на фоне армянского k‘aǰ, Освальд Семереньи [44, р. 424-425] предлагает иранское *karǰ- как протоформу согдийско-армянского термина, хотя и без ясного изложения окончательной картины происхождения слова. Сюда он, кстати, привлекает и осет. karz «крепкий (про напиток), резкий, напряженный», которое не имеет установленной этимологии [27, р. 572-573]. Понятно, что согдийская форма karž полностью совпадает с аварской – различие в значении тут не существенно: понятие «дух, потустороннее существо» и «чудо, диво», разумеется, находятся в одной семантической плоскости. Но как быть с армянским и грузинским терминами, которые ни в коей мере не могли служить передающим звеном от иранского в аварский (из-за наличия -r-)? Можно лишь предположить, что karž существовало либо в среднеперсидском, либо, скорее, в парфянском; оно и проникло на Северный Кавказ. Армянская и грузинская формы тогда должны быть рассмотрены как возникшие от *karǰ -– диалектные варианты с отпадением -r-.
Впрочем, хунзахское каржин (karžin) может привнести новый элемент в обоснование иранской атрибуции аварского ka(r)ž. Окончание -in, будь оно аварским грамматическим показателем, могло создать только отглагольное имя, что, конечно, невозможно, потому что karž- тут – не глагольная основа. Следовательно, -in должно быть частью оригинальной формы, проникшей в аварский. Полагаю, это отражение суффикса относительного прилагательного в среднеиранском, т.е. -ēn (< др.-иран. *-aina-). Посему хунзахское каржин (karžin) вполне может быть аварской адаптацией среднеиранского *karǰēn «чудный, наделенный потусторонней силой и т.д.», если реконструкция Семереньи верна.
3. Нами отмечен интереснейший случай арменизма из иранского источника в аварский, который указывает на довольно раннюю деятельность армянских христианских миссионеров в авароязычной среде. Речь идет об обозначении ведьмы в аваро-андийском, xъart (xъartai), у гунзибцев kъartai. Это существо в женской ипостаси, с седыми распущенными волосами, крючковатым носом; уродливая старуха, которая ходит большими шагами и летает на метле; она нападает на людей, одиноких путников, крадет детей, красивых девушек и пожирает их (см. подробно [36, с. 358; 8, с. 232]). Одним словом, типичный пример антагониста человеческого рода, воплощающего в себе черты Бабы Яги, переднеазиатской Āl, среднеазиатской Ālmastī (этимологию см. [37], s.v. āl), а также разного рода прочей нечисти – пожирателей людей, типа арабо-персидского γūl или индийского rākṣasa- и т.д. Интересно, что самая распространенная аварская сказка называется Хъарт и ЧIлбик, последний – умный мальчик, которому удается перехитрить Хъарт.
Данное обозначение демонического существа в аваро-андийском доселе остается без объяснения: поиск кавказских корней, видимо, не имеет перспектив. Очевидно, что это – заимствованный элемент, наиболее вероятным источником которого однозначно можно считать армянское kaxard, точнее его разговорную форму *k(ə)xárt‘5. В армянских народных повериях кахарды – злые ведьмы, чародейки, волшебницы, а слово kaxard наделено большой деривативной валентностью в литературном языке и порой создает даже понятия с положительным значением, скажем, kaxardakan «чудесный, привлекательный». В классической литературе, однако, особенно в теологических сочинениях, kaxard олицетворяет, в первую очередь, антагонистические христианству понятия. Например, у Езника, автора V в., кахард – атрибут жреца-огнепоклонника, зороастрийского мага, чародея.
Арм. kaxard – фактически единственный пережиток авестийского kaxvarəδa- (kaxvarəiδī-), названия класса мужских и женских существ дэвовской природы, которое традиционно, еще со времен Бартоломе [45, р. 462], объясняется как композит, состоящий из пейоративного префикса ka- («что за! какой!») и -xvarəδa- (< и.-е. *sṷordo-) с приблизительным значением «что за/ какое (отвратительное) черное (существо)!». Удивительно, что это слово сохранилось только в армянском, его нет ни в одном из иранских языков; помимо армянского, оно отмечено лишь в буддийском санскрите как kākhorda-.
Вопреки древней, чисто иранской, причем, восходящей к Авесте, родословной, все же наличие данного слова в аваро-андийском отнюдь не показатель каких бы то ни было зороастрийских коннотаций: наоборот, мы имеем дело, очевидно, с явным негативным, антизороастрийским толкованием авестийского термина, принятым в армянском христианстве.
3.1 Еще один арменизм со значимой культурно-исторической нагрузкой, к тому же, почти общесеверокавказского охвата – это название меча или сабли. Ср. лезг. tur, агул. tur, цахур. tur, табас. tur, хинал. tur, дарг. tur, лак. tur, чечено-инг. tur и бацб. tur. Странно, что в аварском это слово не встречается. На основе кавказского материала не имеет объяснений. Несомненно, из арм. t‘ur “меч, сабля”, имеющего безупречную индоевропейскую этимологию – из и.-е. *torh1/3-o- «колющий, проникающий» (прото-и.-е. *terh1/3-o- «уколоть; тереть, растирать», ср. греч. τορέω) [46, р. 209].
4. О загадочном слове ruzmán «пятница» (ružmán, ružmán-kъo «пятничный день») в аварском. Несомненно, иранского происхождения, выглядит даже «зороастрийским». И.Х. Абдуллаев считает его контракцией от rūz-i mihr, что, по его мнению, значит «воскресенье», букв. «праздничный день» [6; 283-284]. Известный кавказовед Джоанна Николс (Johanna Nichols) в письме М. Шварцу (от 11.06.2024, присланном мне последним со своими комментариями), упоминая ингушское ruzba –«пятничная молитва», отмечает что оно должно быть из арабского. «Косвенная основа, – пишет она, – ruzban,
с дополнением назального, привела к развитию -b- в -m-», давая, с ее точки зрения, в результате ruzmán. Комментарии Шварца (там же): «Нет, конечно, не из арабского! Я бы взял за основу перс. rūzbi/eh ‘счастливый день’, откуда ингуш. ruzba > авар. ruzma > ruzmán, со вторичной назализацией в конце». Арабский, разумеется, не может быть здесь предметом обсуждения. Но и предложение Шварца тоже неприемлемо, потому что, во-первых, исходная форма не ингушская, а аварская, как справедливо отмечает Абдуллаев [6, с. 283-284], и, во-вторых, rūzbi/eh – не существительное со значением «auspicious day/ times», a прилагательное, имеющее значение «счастливый, благостный». Тем не менее, именно Шварц, упоминая перс. rūzbi/eh, дает ключ к решению проблемы. Дело в том, что в персидском мы имеем rūzbihān, от rūzbih (с многофункциональным суффиксом –ān, образующим, помимо прочего, также название праздников и церемоний), которое в данном случае может означать «день/время счастливых, благостных». В суфийской среде это слово могло восприниматься и как «день конгрегации, время встречи благостных» – неслучайно, имя (титул) Rūzbihān было очень популярным у иранских мистиков (ср., например, Rūzbihān Baqlī, известнейший персидский суфий и поэт XII в. из Шираза).
Таким образом, перс. rūzbihān, судя по всему, и есть источник авар. ruzmán, через ruzbán, которое, собственно, и встречается в аварских диалектах как ruzbán-kъo [36, с. 300].
5. Теперь можно перейти к конкретному рассмотрению заимствованных лексем среднеиранского периода, которые так или иначе являются потенциальными свидетельствами зороастризма в Дагестане. Мне удалось, при довольно беглом просмотре дагестанского языкового материала выявить семь релевантных форм. Уверен, при более основательном подходе к изучению дагестанской лексики число так называемых среднеиранских/«зороастрийских» лексем может увеличиться в разы.
5.1. Авар. žužáxI (=žužáḥ), žuržáxI, ǰuǰaxI «ад, преисподняя» [36, с. 165] – отражает среднезападноиранское (парфянское) *dužaxv, с ассимиляцией начального d- в ž- и конечным фарингализованным -ḥ, из -xv. Засвидетельствованные формы в иранском: авест. daožaŋhuua-, маних. парф. dwjx/dōžax, пехлевейское dwšhwˈ/dušox, маних. ср.-перс. dwš(w)x/ dušox, арм. džox-k‘ (арм. -o- из более ранней формы *dužáwx (-k‘ показатель мн. числа) < парф. *dužavx, с метатезой из *dužaxv), груз. ǰoǰox- (в ǰoǰoxet‘i), из более ранней *doǰox. Новосеверозападноиранские диалекты в основном следуют парфянскому, с -ž-, как, например, курд. dō/ūžī, белудж. dūžah, dōžī и т.д. Уникальный вариант лексемы представлен в персидском: dōzax (класс.), dūzax (совр.), с -z-. – Протоиранская праформа уверенно восстанавливается как *duš/ž-ahṷa- «дурное/плохое существование, бытие».
Заимствование в аварском из персидского исключается, равно как и из грузинского. Грузинская версия слова в аварском (при регулярном -ǰ->-ž-) отразилась бы как *žožox(eti).
Это слово встречается только в аварском; другие дагестанские и в целом северокавказские языки для понятия «ад» употребляют термины, восходящие к араб. ǰahannam (ср., напр., дарг. žagьannab = žahannab, žagьannav и т.д.).
5.2. Авар.-анд. avárag «пророк»; употребляется в отношении всех пророков, в том числе Мухаммада (ср. ya MuxIamad, ya bičasul avárag! «о, Мухаммад, о, Божий Пророк!» – точное соответствие араб. yā Muḥammad, yā rasūl Allāh!). Первая и единственная попытка серьезного анализа термина принадлежит Абдуллаеву [47, с. 342], который объясняет его как «скифо-сармато-аланское» наследие, из некоей общедагестанской праформы *idawag, навеянной осетенским (i)dawæg (см. о последнем слове [27, р. 348-349]. Позже, ту же идею в целом повторяет и Элио Провази со ссылкой на Абдуллаева [48, 361 ff]. Эта попытка, однако, довольно уязвима, поскольку, несмотря на тождество конечного слога этих двух слов, никакие фонетические процессы не могут превратить *idawag в avárag. Это просто невозможно. Тут не надо ходить далеко, объяснение, по сути, лежит на поверхности, что было подмечено еще в конце XIX в. Усларом, указывающим на генетическую связь аварского avárag с новоперсидским (у него – тюркским) āvāra «скиталец, бродяга» [49, с. 36]. По всем параметрам авар. «avárag» действительно скрывает в себе ср.-перс. антецедент н.-персидского āvār(a), то есть *āvārag в позднесасанидском произношении, со звонким конечным –g (ранняя форма - *āvārak) и со значением «скиталец, бродяга, странствующий, бездомный и т.д». Др.-иран. источник ср.-перс. *āvārak/g можно восстанавливать как *ā-ṷāra-(ka-) (протоиран. *ṷarH- «срывать, вырывать; грабить, отнимать» < и.-е. *ṷelh3- «ударять») (см. подробно [37], s.v. āvār).
Семантическое развитие «скиталец» > «прорицатель» (а далее и «пророк» в широком смысле) имеет серьезную основу. Сакрализация бродяжничества, скитания, отшельничества, наряду с целым рядом прочих асоциальных, «профанных» элементов поведения, чуждых догматическому взгляду – важнейший элемент легитимизации (на популярном уровне), а затем порой и институализации (на догматическом уровне) альтернативного пути спасения для избранных. Ярким образцом феномена «сакрализации профанного» в собственно исламской традиции является особый статус бродячих мистиков, в агиографии которых мотив странствования занимает существенное место6. Это особенно четко проявлено в раннем суфизме, а потому и отражено в указанном семантическом развитии, учитывая период становления окончательного значения термина. Формирование значения аварского avárag произошло в позднезороастрийско-христианской и раннемусульманской среде, потому что в догматическом зороастризме пророк – отнюдь не сакрализованный народной традицией бродяга-прорицатель, а носитель божественного послания (как и все канонические пророки). Судя по тому, что в среднеперсидском мы имеем ptg’mbl/patgāmbar, а в согдийском ptγ’mbr/patγāmbar, можно с уверенностью восстановить для древнеиранского *patigāma-bara- как обозначение пророка, носителя божественного послания7. В современном персидском пережиток этого термина peyγambar (payāmbar) имеет хождение в некоторых южнодагестанских языках, в лезгинском, табасаранском, и т.д., но араб. rasūl, насколько мне известно, нигде в дагестанских языках не обнаружено.
5.3. Авар. munágъ (= munáh), в южных диалектах bunagь «вина» [36, с. 259]. Из ср.-перс. wn’s/vināh «грех, преступление»; ср. маних. ср.-перс. w(y)n’h/wināh «грех; ущерб; рана» versus маних. парф. w(y)n’s/winās «тж.»; арм. vnas «ущерб» из парфянского; в н.-перс. gunāh «вина, грех». Авар. m/bunagъ, из-за начального m-/b-, предполагает звонкий лабиальный ṷ-, иначе, если бы оно было заимствовано из н.-перс., мы бы имели, конечно же, gunah, как в лезгинском, цахурском и т.д. Что касается -u- в первом слоге, вместо ожидаемого -i-, то это результат внутриаварского развития (ср. авар. purmán «разрешение, дозволение» < перс. firmān, авар. púkri «мысль» < араб. fikr, но дарг. pikri) или влияние более распространенного и известного gunah (< н.-перс. gunāh).
5.4. Авар. dastar «жрец-язычник»; зафиксировано только в диалектах (указано Ш. Хапизовым). Прямое отражение ср.-перс. dstwbl/dastvar, маних. ср.-перс. dstwr/dastwar «жрец, учитель» (< *dasta-bara-; протоиран. *danh- “учить”), с падением -v- перед -a-. При заимствовании из н.-перс. dastūr, в аварском имели бы *dastur (о соотношении -var/-ūr в персидском, см. [37], s.v. vaxšūr).
5.5. Авар. gьalmagъ (=halmaγ) «товарищ, приятель, попутчик». Среднеиранское происхождение очевидно: ср. ср.-перс. hmb’g/hambāγ «подельник, друг», н.-перс. anbāγ «сотоварищ, друг; жены многоженца по отношению друг к другу» < др.-иран. *ham-bāga- «совместно разделяющий (что-то)» (др.-иран. *baǰ- «разделять, распределять, делить»). Адаптация произошла, по-видимому, через метатезу -mb->-βm- с последующим переходом в -lm-.
5.6. Дарг. vačar, vaččar «торговля» [51, с. 113]. Конечно, из ср.-перс. w’c’l/vāčār «рынок, базар»; маних. ср.-перс. w’c’lk’nˈ/vāčārakān «торговец», маних. парф. w’c’rg’n/wāžāragān «тж.»; арм. vačaṙ и vačaṙakan представляют раннесреднеперсидское состояние; в н.-перс. bāzār и, соответственно, bāzargān (см. подробно [37], s.v. bāzār). Но, как я отметил выше, дарг. vač(č)ar почти в равной мере может быть заимствованием и из армянского, что относится и к дериватам этого слова vačrukьyan, vačarukIan, vačrikьyana и т.д. «торговец» versus заимствованного из н.-перс. bazrigan [51, с. 57]. В любом случае, это среднеиранское наследие, хотя, возможно, не является диагностическим с точки зрения рассматриваемой темы.
5.7. Ш. Хапизов обратил мое внимание также на авар. magъúš(š) (=maγúš), которое означает «аульный глашатай, чавуш» [36, с. 242]. Форма выглядит вполне иранской, хотя происхождение не очень ясно. Во всяком случае, это, несомненно, не новоиранское слово, но и в среднеиранском не имеет засвидетельствованных параллелей – ни в среднеперсидском, ни в парфянском. Тем не менее, исходя из формальных и семантических параметров, напрашивается среднеиранская праформа *maγōš для данного слова, возможно из др.-ир. *hama-gauša- (др.-иран. *gauš- «слушать, слышать»).
6.0 Я полагаю, приведенный материал не нуждается в интерпретации в виде отдельного заключения: можно лишь, пожалуй, отметить, что проникновение среднеиранского элемента в Дагестан как потенциальное свидетельство о зороастризме, судя по в целом скудным языковым данным, имело место во времена последних Сасанидов и, по-видимому, через авароязычную этнокультурную среду. Это относится в некоторой степени и к последующему раннемусульманскому периоду, то есть и позднее также иранское влияние шло, видимо, через аварцев. Это видно по ряду довольно архаичных/редких лексем, обнаруженных в аварских языках из раннекласического новоперсидского, скажем xediv «муж, супруг» в цезском [52, с. 278], из xadīv «хозяин, правитель», довольно редкое и в самом персидском (восточноиранизм) слово; или bel «лопата» [36, с. 63-64], с классической огласовкой, из перс. bēl (с маджхул -ē-), и т.д. Правда, класс. н.-перс. формы отмечены и в других дагестанских языках, например, дарг. manavša «фиолетовый» [51, с. 336], которое, кстати, могло рассматриваться и как среднеиранизм, из ср.-перс. wnpškˈ/vanafšak «фиалка», с закономерным ср.-перс. v-> m- (ср. выше, §5.3), если суффикс фигурировал бы в полной форме, как -ag: а в данном случае мы имеем класс. перс. -a. Тем не менее, насыщенность лексики аварской языковой общности архаическими элементами из внекавказской среды – иранской, армянской, скифо-сарматской и т.д. – выступает наиболее отчетливо.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Этюд о «мечети»
Несмотря на абсолютную доминанту ислама на Северном Кавказе, регион этот – средоточие древнейших автохтонных культур, идущих из глубин тысячелетий и аккумулировавших в себе разнообразные компоненты иранской цивилизации, христианского мира и т.д. Это кладезь оригинальных и самобытных культур, сохраняющихся, в том числе в аутентичной религиозной терминологии. Так, абсолютное большинство северокавказских языков, с адаптацией общеисламских арабских терминов, сохранили и собственную сакральную терминологию, в том числе обозначения для бога (как, например, авар. bečed, лак. žal, дарг. xalabčaw, чечен. dela, лезг. umcar и т.д. – см. подробно [7, с. 155] или для молитвы (у аварцев – kak). Заимствованное из персидского слово namāz¸ употребляемое ныне в качестве синонима араб. ṣalāt у значительной части мусульман мира, насколько я заметил, в Дагестане не имеет хождения. Но интересно, что у горских евреев Кавказа синагога обозначается этим словом, namūz.
С этой точки зрения примечательно, что, например, название главного святилища мусульман у большинства народов Северного Кавказа – это не адаптации арабского масджид, а оригинальные формы, перенятые, скорее всего, в позднесасанидское время у иранцев. Но прежде надо взглянуть на историю арабского masǰīd.
В классическом арабском masǰīd просто обозначало «место поклонения», «место исполнения suǰūd», как и в домусульманской арабской поэзии. В Коране оно встречается 28 раз, в основном по отношению к Мекканскому храму, Masǰid al-ḥarām, а также к Иерусалимскому храму и церкви, построенной над пещерой Семи спящих отроков Эфесских.
Для Пророка Мухаммада masǰīd – любое место отправления религиозного культа. Институционализация термина masǰīd как названия исключительно мусульманского святилища произошла позднее, в первые века распространения ислама. Само слово masǰīd, хотя и умещается полностью в модель семитского словообразования, от общесемитского корня *s-g-d- (= араб. s-ǰ-d-) и спокойно могло образоваться от глагола saǰada по типу kataba/maktab, ǰalasa/ maǰlis, ṭabaxa/maṭbax и т.д., тем не менее, заимствовано, скорее, из арамейского через набатейсткий [53, р. 263-264]. В набатейских надписях I в. н.э. встречается форма msgd’/masgidā (редко mšgd’/mašgidā) как название алтаря или священного камня, посвященного, главным образом, домусульманскому арабскому божеству Душаре (Dūšarā) [53, р. 21, no 23, 22, no 24, 34, no 38, 71, no 96].
Примечательно, что в еврейской эпиграфике Йемена V в. msgd обозначало синагогу, выступая как синоним библейско-арамейского kenēset или арам. kenīštā [55, р. 72].
Но наиболее раннее употребление термина отмечено в Элефантинских папирусах V в. до н.э. на имперско-арамейском в форме msgd’/masgidā в значении места поклонения, в том числе и Иерусалимский храм [56, р. 147, no 44, 3]. Именно из арамейского заимствовано ср.-перс. mzgtˈ/mazgit, причем, я думаю, в довольно ранний период: озвончение -s- перед -g- свойственно арамейскому [57, s. 37]. Отсюда и класс. н.-перс. mazgit, породившее все новоиранские формы, как, например, абианеи māzge, ханджани mazgī, южно-татск. mazgī, сорхеи mezgat, курд. (курманджи) mizgaft и т.д. [58, р. 276―277]. Почти с уверенностью можно сказать, что все новоиранские диалекты (во всяком случае, в западноиранском сегменте), употребляющие сегодня под влиянием стандартного персидского различные адаптации masǰid (например, талыш. mačīt), в недавнем прошлом имели mazgit. Вообще в период раннего ислама в Иране вся терминология, связанная с мечетью, была исключительно персидской: пятничная мечеть (al-masǰid al-ǰāmi‘) называлась mazgit-i ādīna, а, например, двор при мечети (raḥba) – farāxnāy-i mazgit, и т.д.
Арамейская версия названия мечети превалирует и в афразийских языках, но тюркские языки повсеместно используют арабский вариант термина.
Персидское mazgit, а не его арамейский оригинал, как обычно принято считать [59, с. 54-55], проникло в византийский греческий как μιξγίθα [60, р. 63], в армянский как mzkit‘ и грузинский, mizgit-i. Интересно, что и на Индийском субконтиненте важнейшее культовое сооружение мусульман известно и в своем персидском обличье, то есть masītī в хинди и маратхи и masīt в панджаби, откуда, кстати, и белуджское masītt (явно из перс. mazgit: араб. masǰid дало бы *mašīt).
Впрочем, др.-русск. мизгитъ, мезгитъ (XIV–XV вв.), не сохранившееся в современном языке, также восходит – через, видимо, литературный источник – к перс. mazgit.
Начальный период проникновения ислама на Северный Кавказ связан с арабским завоеванием Закавказья через Южный Дагестан, откуда новая религия распространилась среди большинства этнических групп, населявших регион до XIII–XIV вв. Горцы западной части края – черкесы, абазины и убыхи – приняли ислам в результате деятельности османских и крымско-татарских миссий.
Если исторические обстоятельства, обусловившие наличие арабского или арамейского/персидского вариантов названия мечети в той или иной части исламской ойкумены в целом так или иначе ясны, то превалирование форм, восходящих к персидскому mazgit на Северном Кавказе, нуждается в некотором осмыслении – тут вообще ожидалось бы доминирование арабского masǰid, учитывая всеобъемлющую роль арабского как lingua franca в регионе и тот факт, что Дагестан в средние века был заметным центром исламской учености на Кавказе.
Однозначно происходят из персидского mazgit следующие северокавказские формы: авар. mazgit, mažgit, mižgit, maškIit, закатальский авар. miz(d)ikI [36, с. 244], бежт. mažgit, maždik, дарг. mižgit, mazgit, mizgit, mižit, mistikI (но misžit и mišit [51, с. 344-345], судя по форме, отражают араб. masǰid), лезг. miski (< *miskit), агул. mazgit, будух. mezgit, рутул. mezdik (< *mezgit), карачай-балк. mežgit, чечено-инг. maždig (< *mažgit) и осет. mæzgyd/t, mæzgid/t.
Как же объяснить теперь появление плотного слоя вариантов подобного культового термина, имеющего первостепенное значение для мусульманской религиозной практики, не в его арабской, а в персидской версии? Можно было допустить, конечно, активное участие персоязычных сообществ в процессе распространения ислама на Северном Кавказе. Но тут возникает существенное препятствие: если началом активной фазы исламизации Северного Кавказа считать XI–XII вв., то к тому времени слово mazgit в самом персидском было уже глубоким архаизмом. Неслучайно хорасанский лексикограф-поэт Асади Туси в составленный им для западных иранцев словарь сложных для понимания слов из Мавераннахра включил и слово mazgit, которое объяснял, как “мечеть – по-персидски” [61, р. 51]. Правда, как я уже отметил выше, иранские диалекты до сих пор почти повсеместно сохраняют mazgit (кстати, засвидетельствована также форма mažgit), но в персидском литературно-религиозном узусе оно полностью исчезло с X в., уступив место masǰid.
Знаковый культовый термин mazgit, причем принадлежащий к антагонистической по отношению к исламскому мейнстриму этноязыковой стихии, языку маджусов (maǰūs), мог закрепиться в кавказской среде, органично интегрируясь в словарь целой группы народов только в результате этнического смешения, субстратно-адстратных процессов. Исходная точка распространения термина – Дербент, этнический котел, который с середины III в. н.э. находился в фокусе влияния Сасанидов, а с V в. целиком вошел в состав Персии. Когда арабы впервые в 643 г. взяли Дербент, он был зороастрийско-христианским городом. Население по большей части состояло из зороастрийских персов, христиан – армян и албанцев, а также автохтонного населения. Сасаниды переселяли в Дербент определенное количество армян для защиты пограничного города [62, р. 364-365].
Как бы то ни было, рассматриваемое слово могло проникнуть в кавказские языки в процессе этнического смешения в течение последнего периода Сасанидского правления перед арабским нашествием. Это позволяет нам рассматривать указанный термин как среднеиранизм – прямое отражение ср.-перс. mzgtˈ/mazgit, как обозначение чужеродного святилища, несомненно имевшее хождение в речи зороастрийских иранцев и исповедующих христианство армян и албанцев. По сути, мы имеем дело не с простым заимствованием, а с субстратным элементом, иначе бы оно очень скоро уступило бы место араб. masǰid. Как неотъемлемая часть словаря, подобные лексемы более устойчивы и редко поддаются отчуждению. Считать их заимствованиями в принятом смысле нельзя.
Таким образом, как бы странно это ни прозвучало, но само название мечети в форме mazgit – еще одно свидетельство о зороастризме в Дагестане.
Благодарность. Я искренне признателен моему другу Ш.М. Хапизову и проф. Мартину Шварцу (Martin Schwartz) за ценные консультации и за помощь, оказанную мне при написании этой работы, а также проф. М.С. Гаджиеву, сделавшему ряд дельных, весьма профессиональных замечаний по тексту статьи.
Финансирование. Статья подготовлена в рамках проекта 21AG-6A079 Госкомитета по науке Республики Армения.
Acknowledgments. I am grateful to my friend Sh.M. Khapizov and Prof. Martin Schwartz for valuable consultations and assistance in writing this paper, as well as to Prof. M.S. Gadzhiev, who made a number of useful comments on the text of this article.
Funding. The study was prepared within the framework of the project 21AG-6A079 of the State Science Committee of the Republic of Armenia.
1. Что касается аварского gьatIan (=haṭán) «воскресенье» и «церковь» (в смысле «место воскресной молитвы»), традиционно считающегося «христианизмом», на самом деле, оно вряд ли идет из армянского, как я полагал раньше [23, р. 11); это, скорее, из араб. fadan ‘дворец, павильон’ (вторично извлеченное из afdān, воспринимаемое как мн. число, из ср.-перс. aβdān, ср. маних. парф. ’fdn/ āfδan, ’pdn/ appaδan “дворец” < др.-перс. apadāna-), через *pad/tan (с f- > p-, как в pakъir < араб. faqīr, purgun < русск. фургон, и т.д.), со свойственным северным диалектам переходом /p/ в /h/, как, например, per > her “лук (растение)” (иную интерпретацию данного термина в качестве исконного элемента, см. [24]).
2. Даргинское издаг «женщина благородного происхождения» и имя собственное (ж.) Издæг, выводимые из скифо-сарматского (см. [6, с. 216]), и даже осет. (i)zæd не могут рассматриваться в данном контексте [26, р. 93-94, fn. 46, 253]. Последнее, возводимое В.И. Абаевым [27, с. 280-281] к иран. *i̯aźata-, должно быть, вероятнее всего, заимствованием из среднезападно-иранского, возможно, в период аланских нашествий на регион. Заимствование из новоперсидского īzad (класс. ēzad), как полагал Х. Хюбшманн [28, р. 125], было попросту невозможно, ибо, во-первых, прямых общений между осетинами и носителями персидского языка в новоиранский период не отмечено, а во-вторых, данное слово встречается исключительно в классической литературе и в разговорной речи никогда не употреблялось.
3. Не имеет смысла говорить о заимствованной лексике более ранних периодов, скажем, Аршакидского или, тем более, Ахеменидского. Поэтому возведение авар.-анд. waran(i) “верблюд” к древнеиранскому (индо-иранскому, восточно-иранскому) источнику, предложенное Г.А. Климовым [29, с. 228] и повторенное позднее [30, с. 224] на основе сравнения с санскр. varaṇá-, не представляется правомерным, поскольку, во-первых, varaṇá- означает не «верблюд», а «вид дерева» и, во-вторых, совершенно неясны исторические обстоятельства заимствования. Правда, есть в ведическом санскрите и vāraṇá- (с долгим гласным в первом слоге), которое действительно означает «верблюд», но картина от этого не меняется. Верблюд был непривычным животным в равной степени и для индоиранцев, и для горцев Кавказа: основное обозначение верблюда в индоиранском, *(H)uštra- (санскр. úṣtra-, авест. uštra-, др.-перс. uša-) – по сути, субстратное (не исконное) слово [31, р. 313]. И вообще, почему, собственно, кавказцы должны были заимствовать у ариев маргинальное слово неясного происхождения (даже если бы varaṇá- означало «верблюд») вместо основного термина úštra-?
4. Вообще, любое слово, имеющее ср.-иран. происхождение, можно априори рассматривать как своего рода зороастрийский след в Дагестане.
5. На наличие сходной формы, kɫart‘-k‘ (= kəγart‘-) «талисман», засвидетельствованной у автора XIII–XIV вв. Есайи Нчеци, указал мне Грач Мартиросян (письмо от 20.07.2024).
6. Более подробно об асоциальных формах поведения и «сакрализации профанного» на популярном уровне, см. [50].
7. Кстати, основываясь на наличии в классическом персидском термина vaxšūr, также со значением «пророк», можно восстановить древнеиранскую праформу *ṷaxša-bara- букв. «носитель Слова», то есть передающий некое откровение, божественное послание (см. [37], s.v. vaxšūr).
Garnik S. Asatrian
Russian-Armenian University
Author for correspondence.
Email: garnikasatrian@gmail.com
Armenia
Doctor of Philology, Professor
Director
The Institute of Oriental Studies, Russian-Armenian University
- Ataev DM. Mountainous Dagestan in the Early Middle Ages: Based on Archaeological Excavations in Avaria. Makhachkala, 1963. (In Russ)
- Seferbekov R. Gods and Demons of the Dagestani Peoples (a Tentative Typology and Classification). Iran and The Caucasus. 1999; 3-4: 119-134.
- Seferbekov R. On the Demonology of the Tabasaranians: Typology and Description. Iran and The Caucasus. 2001; 5: 139-148.
- Seferbekov R. Patron Deities of the Hunt and Wild Animals in Dagestan. Iran and The Caucasus. 2012; 16(3): 301-307.
- Seferbekov R. The House-Spirit (Domovoj) in Dagestan. Iran and The Caucasus. 2015; 19(2): 139-144.
- Abdullayev IKh. Inter-Dagestani and inter-Caucasian language contacts: Historical, etymological, areal and onomastic studies. Makhachkala, 2015. (In Russ)
- Seferbekov RI. Pantheon of pagan deities of the peoples of Dagestan (Typology, characteristics, personifications). Makhachkala: DINEM, 2009. (In Russ)
- Seferbekov RI. Characters of the lower mythology of the peoples of Dagestan. Makhachkala: IHAE DFRC RAS, 2019. (In Russ)
- Gasanov M. On Christianity in Dagestan. Iran and The Caucasus. 2001; 5: 79-84.
- Khapizov Sh.M., Abdulmazhidov R.S., Akopyan A.E. On the Early Stage of the Spread of Christianity in Dagestan (Based on Armenian Sources). Caucaso-Caspica: Proceedings of the Institute of Oriental Studies of the Russian-Armenian (Slavic) University. Issue VI. Yerevan, 2021: 15-26. (In Russ)
- Chirikba VA. Between Christianity and Islam: Heathen Heritage in the Caucasus. Studies on Iran and The Caucasus in Honour of Garnik Asatrian. Brill-Leiden, 2015: 145-191.
- Gadzhiev MS. Zoroastrian burial complex near Derbent. Russian Archeology. 2007; 4: 51-63. (In Russ)
- Miskawayh al-Rāzī. Taǰārib al-‘umam. Abū al-qāsim Imāmī (ed.), Tehran, 1987.
- Gadzhiev MS. On the identification and interpretation of Zoroastrian symbols in the sign system of Derbent in the middle of the 6th century. International scientific conference “Archaeology, ethnology, folklore studies of the Caucasus.” Collection of brief contents of reports. Tbilisi, June 25-27, 2009: 104-110. (In Russ)
- Gadzhiev MS. Experience of interpretation of signs of the builders of Derbent. Steppes of Eastern Europe in the Middle Ages. Collection of articles in memory of S.A. Pletneva. Moscow, 2016: 81-114. (In Russ)
- Gadzhiev MS. Religious life in Caucasian Albania: Zoroastrianism versus Christianity. Bulletin of Ancient History. 2022; 82/83: 672-699. (In Russ)
- Mammaev MM. On Zoroastrianism in Medieval Dagestan. Antiquities of the Caucasus and the Middle East. A collection of articles dedicated to the 70th anniversary of M.G. Gadzhiev. Makhachkala, 2005: 103-128. (In Russ)
- Mammaev MM. Zirikhgeran-Kubachi: essays on history and culture. Makhachkala: IHAE, 2005. (In Russ)
- Mammaev MM. Once Again on Zoroastrianism in Medieval Dagestan. Bulletin of the Institute of HAE. 2006; 2: 143-159. (In Russ)
- de Jong A. Armenian and Georgian Zoroastrianism. In: M. Strausberg, S.-D. Vevaina (eds.) The Wiley Blackwell Companion to Zoroastrianism. Oxford, 2015: 119-128.
- Russel J. Zoroastrianism in Armenia. Harvard, 1987.
- Rapp SH. The Sasanian World through Georgian Eyes: Caucasia and The Iranian Commonwealth in Late Antique Georgian Literature. Ashgate, 2014.
- Asatrian GS. “Do eṣṭelāḥ-e masīḥī dar zabānhā-ye šomāl-e Qafqāz.” Pažūhešhā-ye zabānī-adabī-ye Qafqāz-o-Kaspīyan, fasc. 5. Tehran, 2020: 7-12. (In Pers)
- Magomedov MA., Khazamov D-AA. On the etymology of toponymic appellatives ГьатIан ‘temple’ (‘chapel’) and Гьа ‘oath’ in the Avar language. Caucasian languages: genetic and typological communities and areal connections: abstracts of reports of the V International scientific conference. Makhachkala, June 2-3, 2016: 26-27. (In Russ)
- Benveniste E. Études sur la langue ossète. Paris, 1959.
- Cheung J. Studies in the Historical Development of the Ossetic Vocalism (Beiträge zur Iranistik). Wiesbaden, 2002.
- Abaev VI. Historical and Etymological Dictionary of the Ossetian Language. Vol. I. M.-L., 1958; Vol. II. L., 1973; Vol. IV. L., 1989. (In Russ)
- Hübschmann H. Etymologie und Lautlehre der Ossetischen Sprache. Strassburg, 1887.
- Klimov GA. Caucasian Etymologies (1-8). Etymology. 1968: (1971): 223-230. (In Russ)
- Klimov GA., Khalilov MSh. Dictionary of Caucasian Languages: Comparison of Basic Lexicon. Moscow, 2003. (In Russ)
- Lubotsky A. The Indo-Iranian Substratum. Early Contacts between Uralic and Indo-European: Linguistic and Archaeological Considerations. Helsinki, 2001: 301-317.
- Suleimanov YaG. On one linguistic evidence of Zoroastrianism among the Avars. Etymology. 1977 (1979): 151-153. (In Russ)
- Duchesne-Guillemin J. Ahrimen. Encyclopaedia Iranica. 1984; 1(6-7): 670-673.
- Hoffmann K. Av. daxma-. KZ 79: 300, 1965.
- Benveniste E. Coutumes funéraires de l’Arachosie ancienne. A locust’s leg: Studies in honor of S.H. Taqizadeh. London, 1962: 39-43.
- Saidova PA. Dialectological Dictionary of the Avar Language. Moscow, 2008. (In Russ)
- Asatrian GS. Forthcoming. Etymological Dictionary of Persian. Berlin-Leiden: De Gruyter-Brill, 2010.
- Alibekova PM. Avar Vocabulary in the Lexicographic Works of Dibir-kadi from Khunzakh. Makhachkala, 2017. (In Russ)
- Chursin GF. Avars: Ethnographic Essay. Makhachkala, 1995. (In Russ)
- Seferbekov RI., Shigabudinov DM. Mythological Characters of Traditional Beliefs of the Avars-Khunzakhs. Makhachkala: Nauka Plus, 2006. (In Russ)
- Israpilova ZA. Pre-monotheistic Beliefs of the Dargins in the 19th – early 20th Centuries: (Pantheon and Pandemonium): Dissertation abstract (07.00.07). Makhachkala, 2011. (In Russ)
- Fähnrich H. Lexikon Georgische Mythologie. Wiesbaden, 1999.
- Haussig H.W. (ed.) Götter und Mythen der kaukasischen iranischen Völker. Stuttgart, 1986.
- Szemerényi O. Iranica III. Henning Memorial Volume. London, 1970, pp. 417–426.
- Bartholomae Chr. Altiranisches Wörterbuch. Strassburg, 1904.
- Ačaṙean Hr. Hayeren armatakan baṙaran. Ht. 2. Erevan, 1973.
- Abdulaev IKh. On the history of the names of the prophet in Dagestan languages. Etymology. 1970(1972): 339-348. (In Russ)
- Provasi E. Wanderers and Prophets in the Caucasus. Studia Iranica et Alanica. Festschrift for V.I. Abaev. Rome, 1998: 353-372.
- Uslar PK. Ethnography of the Caucasus. Linguistics. T. III: Avar Language. Tiflis, 1889. (In Russ)
- Arakelova VA. On some Derogatory Descriptions of Esoteric Religious Groups. Medieval and Modern Iranian Studies, Cahier de Studia Iranica. Paris, 2011: 33-44.
- Temirbulatova SM. Dialectological Dictionary of the Dargin Language. Makhachkala, 2022. (In Russ)
- Abdullayev AK., Khalilov MSh. Dialectological Dictionary of the Tsez (Dido) Language. Makhachkala, 2023. (In Russ)
- Jeffery A. The Foreign Vocabulary of the Qur’ān. Baroda (2nd edition). Brill-Leiden, 2007.
- Littmann E. Semitic Inscriptions, Section A. Nabatean Inscriptions from Southern Ḥaurān. Leiden, 1914.
- Lindstedt I. Muḥammad and His Followers in Context: The Religious Map of Late Antique Arabia. Leiden-Boston, 2024.
- Cowley A. Aramaic Papyri of the Fifth Century B.C. Oxford, 1923.
- Nöldeke Th. Persische Studien II. Sitzungsberichte der philosophisch-historische Classe. Bd. 126. Vienna, 1888.
- Asatrian GS. A Comparative Dictionary of Central Iranian Dialects. Tehran, 2011.
- Chirikba VA. On the Names of the Mosque in the Languages of the Caucasus and in Other Languages. Caucaso-Caspica: Transactions of the Institute of Oriental Studies of the Russian-Armenian (Slavic) University. VIII-IX. Yerevan, 2024: 51-64. (In Russ)
- Hoyland RG. Seeing Islam as Others Saw it. A Survey and Evaluation of Christian, Jewish and Zoroastrian Writings on Early Islam. Princeton, New Jersey, 1997.
- Eqbāl A. (ed.) Ketāb-e Loγat-e fors ta’līf-e Asadī Ṭūsī. Tehran, 1941.
- Christensen A. L’Iran sous les Sassanides. Copenhague, 1936.
Views
Abstract - 1437
PDF (Russian) - 502
Article Metrics
Metrics powered by PLOS ALM