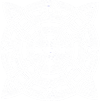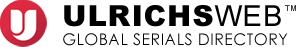EARLY MEDIEVAL ROCK-CUT BURIALS OF AGARAK
- Authors: Yengibaryan N., Mirijanyan D., Ter-Minasyan L., Khudaverdyan A.
- Issue: Vol 21, No 1 (2025)
- Pages: 155-171
- URL: https://caucasushistory.ru/2618-6772/article/view/17185
- DOI: https://doi.org/10.32653/CH211155-171
Abstract
This study presents the initial findings from the archaeological and anthropological analysis of rock-cut burials discovered at the Agarak necropolis. Situated in the Aragatsotn Province of the Republic of Armenia, between the villages of Agarak and Voskehat, the Agarak archaeological site features a northern rock platform where excavations have revealed seven occupational layers spanning the Early Bronze Age to the Late Middle Ages. Within the eastern sector of this platform, twenty-one burial pits, dating to the early medieval period, were identified. These unlined pits, oriented east-west and arranged in four irregular rows, were cut into the tuff bedrock. Some still contain skeletons or bones. One trapezoidal pit exhibited stepped edges to support a lid, while others displayed a distinctive anthropomorphic design, being wider and shallower at the western (shoulder) end and gradually narrowing towards the east (legs). Rock-cut burial pits have a documented presence in the Armenian Highlands since the Early Bronze Age, with known parallels at sites such as Metsamor and Pijut. Beyond Agarak, where they are most prevalent, early medieval examples have also been documented at Metsamor, Metsadzor, the Yerevan Botanical Garden, and in Artsakh. The investigation of these burials involved an evaluation of the preservation status and completeness of the skeletal remains. Age-at-death estimations were conducted using indicators such as ossification and dental eruption in individuals under 23 years, and diaphyseal length of long bones. For older individuals, biological age was assessed through analysis of cranial suture closure, dental wear, joint and symphyseal degeneration, and the presence of degenerative-dystrophic changes on vertebral bodies.
Введение
В комплексе памятников Агарак, за западной окраиной одноименного села, была исследована северная часть скальной платформы, а также ее восточные и южные подножья. Раскопки ее были начаты в 2001 г. и продолжались с перерывами до 2014 г.1 Скальная платформа разделена автомобильной дорогой Ереван – Гюмри на две части. При строительстве дороги центральная часть памятника была разрушена. Выявленное раскопками поселение функционировало от эпохи ранней бронзы до Позднего Средневековья [1, с. 52–57]. Сохранились отдельные помещения, участки стен, виноградодавильня, очаги, различные захоронения. Вся территория комплекса памятников Агарак покрыта высеченными в скале, а также вырубленными из камня ритуальными структурами. Частью этого «ритуального» ландшафта является северная скальная туфовая платформа, поверхность которой также носит углубления разного размера, разнообразные бороздки и соединяющие их желобки, а также скальные погребения [2, с. 41–43] (рис. 1, 2, 2).
Скальные могилы Агарака
Высеченные в скальной породе могилы известны на территории Армении, начиная с эпохи ранней бронзы. В крепости Мецамор была обнаружена высеченная в скале могила с детским захоронением. Погребение сопровождалось золотым украшением для волос, фрагментами керамики, датируемыми серединой III тыс. до н.э. [3, с. 72, таб. XI, рис. 3]. Захоронение в скальной могиле эпохи ранней бронзы известно также в могильнике Пиджут в Техуте области Лори [4, рис. 210/3].
Хронологически самой ранней из высеченных в скалах могил древнего поселения Агарак является захоронение урартского времени на южной стороне платформы. Оно относится к типу однокамерных урартских скальных гробниц. Помещение ориентировано с севера на юг. Вход имел вид ямы, закрытой плитой (не сохранилась), потолок зала двускатный, на продольных стенах высечены большие и малые ниши, перед северной стеной расположен высеченный на уровне пола прямоугольный бассейн с восемью отверстиями по краю. Гробница была разграблена в древности, но благодаря изучению сравнительного материала ее можно датировать VIII–VI вв. до н.э. [5, с. 154–155].
Хронологически следующими скальными могилами являются две неглубокие прямоугольные камеры с округленными углами, датируемые III–I вв. до н.э. [6, с. 59–60]. Одно из захоронений было разграблено в древности. Второе захоронение содержало останки человека с погребальным инвентарем, представленным бронзовыми браслетами, серьгами, заколкой для волос, кольцами, железным ножом и различными бусами.
Самая многочисленная группа высеченных в скалах могил, обнаруженных в Агараке (и в Армении в целом), относится к Раннему Средневековью (рис. 2). Здесь выявлена 21 могила различных размеров, все они были открыты на восточном краю скальной платформы и занимают территорию площадью около 200 кв. м (11×18 м). Могильные ямы расположены четырьмя неровными рядами, ориентированными длинной осью по направлению СВ-ЮЗ. Среди них выделяются группы по 2–3 рядом устроенных могилы, головная часть которых расположена на одной линии. Не исключено, что эти захоронения были совершены одновременно или с небольшой разницей во времени и представляют родственную группу. Могильные ямы различаются в своих размерах, в которых отразились возрастные категории погребенных.
По форме могильные ямы делятся на два основных типа.
Тип I представлен единственным примером – трапециевидной формы, с немного расширенной западной частью, погребальная яма с расположенными по периметру ступенчатыми уступами-плечиками для фиксации несохранившегося перекрытия (рис. 3, 1). Борта и дно камеры тщательно отшлифованы. В определенной мере эта высеченная в скале погребальная камера имеет сходство с массивными прямоугольными каменными саркофагами с каменными крышками-плитами, распространенными в раннесредневековой Армении. Подобные саркофаги того же времени известны и на территории Грузии (Армазисхеви, Мцхета, Рустави) [8, с. 132; 9, с. 166, рис. 6].
Тип II представляют узкие удлиненные ямы двух вариантов: с закругленными торцевыми бортами или подпрямоугольной формы с закругленными углами. Они, как правило, также имеют расширяющийся западный край и сужающийся восточный, соответственно форме человеческого тела (рис. 2, 2). Могилы этого типа неглубокие (16–38 см). Ни на одной могиле не было обнаружено перекрытия. Выделяется погребение № 17, яма которого в изголовье схематически воспроизводит верхнюю часть тела человека – голову и плечи (рис. 3, 2). Подобной формы скальная могила обнаружена и в Мецаморе (рис. 4, 1).
На территории Армении известны и саркофаги подобной формы – снаружи они прямоугольные, а внутри повторяют форму человеческого тела. Лучшим примером подобных является саркофаг, расположенный в восточной части церкви Св. Рипсиме [7, с. 6].
Интерес в плане техники создания скальных камер представляют незавершенные могилы. Их контуры прорисованы, они недостаточно углублены и отшлифованы. В погребениях № 11 и № 12 хорошо заметны следы орудий каменщика типа долота с узким рабочим лезвием.
В некоторых расчищенных скальных могильных ямах сохранились почти целые скелеты (погр. №№ 16, 17, 19) или отдельные кости погребенных (погр. № 14) (рис. 5, 1, 2). Судя по форме могил и сохранившимся in situ скелетам или частям скелета, усопшие клались вытянуто на спине, головой на запад с отклонениями, руки были сложены на груди или вытянуты вдоль туловища. Все могилы индивидуальные. Однако есть исключение: в погр. № 9 были разновременно захоронены взрослый и ребенок: обезглавленное тело ребенка было помещено в могилу позже, при этом была удалена нижняя половина тела похороненного ранее взрослого (рис. 6, 1). Это захоронение находит параллель в одном из раннесредневековых захоронений Талина [10, с. 559–560]. На среднем пальце правой руки, лежащей на груди взрослого, было надето бронзовое кольцо с синей стеклянной вставкой с изображением человеческой фигуры (рис. 6, 2).
К тому же раннесредневековому периоду относятся высеченные в скале могилы, обнаруженные при земляных и строительных работах на могильнике Мецамор (рис. 4) близ с. Мецадзор [11, с. 29], возле Ереванского ботанического сада [12, с. 32] и в раннехристианском культовом пещерном комплексе в Арцахе [13, с. 171]. Обычай хоронить в высеченных в скале могилах сохранялась даже в Развитом Средневековье. Среди таких можно упомянуть родовую двухэтажную гробницу зажиточного жителя города Ани Тиграна Оненца [14, с. 81–85] и двухзальную гробницу с 12 могилами, обнаруженную в скальном поселении вблизи города Спитака [15, с. 22–23]. Интересна высеченная в скале двухчастная гробница монастырского комплекса Гегардаванк, вероятно, предназначенная для супругов, над которой был установлен характерный для XII–XIII вв. хачкар без надписи.
Краткое описание скальных погребений Агарака
Погребение № 1. Размеры могильной ямы: с одной стороны длина 223–227 (длина)×84–89 см (ширина)× 82 см (глубина). Яма узкая, длинная, подпрямоугольной формы, с уступами-заплечиками для перекрытия, слегка расширяется в юго-западную сторону (к изголовью) стенки вертикальные. Это самая глубокая могильная яма.
Погребение № 2. Размеры могильной ямы: 210×35 (ширина в изголовье) (15 см – ширина в ногах) × 25–35. Яма узкая, длинная, торцевые края ямы закруглены, продольные стенки почти прямые, вертикальные. От скелета сохранились несколько фрагментов костей конечностей.
Погребение № 3. Размеры могильной ямы: 204×49 (34)×23–27 см. Яма узкая, длинная, имеет подпрямоугольную форму с закругленными углами, слегка расширяется в юго-западном направлении. В камере оказались лишь плохо сохранившиеся остатки правой ноги и левый голень скелета.
Погребение № 4. Размеры могильной ямы: 180×43 (32)×35 см. Яма узкая, длинная, подпрямоугольной формы с закругленными углами, стенки камеры вертикальные. В заполнении ямы найдены три небольших фрагмента керамики раннебронзового века.
Погребение № 5. Размеры могильной ямы: 175×24 (17)×15–24 см. Яма узкая, длинная, слегка расширяющаяся в юго-западную сторону, с закругленными торцевыми стенками (рис. 6, 3).
Погребение № 6. Размеры могильной ямы: 220×42 (36) ×25―35 см. Яма узкая, длинная, слегка расширяющаяся в юго-западную сторону, с закругленными торцевыми стенками. Рядом с ней расположена виноградодавильня позднеантичного времени.
Погребение № 7. Размеры могильной ямы: 100×20×19–20 см. Яма узкая, длинная, подпрямоугольной формы, с закругленными торцевыми стенками. Судя по размеру, погребение детское.
Погребение № 8. Размеры могильной ямы: 75×17×17 см. Яма узкая, длинная, чуть расширяющаяся в западную сторону, с закругленными торцевыми стенками. Судя по размеру, предназначалось для захоронения ребенка. На дне камеры обнаружены сложенные в кучку фрагменты костей, костной трухи и зуб. Возможно – перезахоронение.
Погребение № 9. Размеры могильной ямы: 183×30 (12)×35 см. Яма узкая, длинная, слегка расширяющаяся в юго-западную сторону. Юго-западная торцевая стенка – прямая, противоположная северо-восточная – закругленная. В камере были обнаружены лежащие на спине скелеты мужчины (50-55 лет) и ребенка 5-6 лет. От скелета мужчины сохранилась верхняя часть со скрещенными на груди руками. Нижняя часть скелета, очевидно, была позднее удалена для захоронения ребенка, у которого отсутствовал череп. На среднем пальце правой руки мужчины найдено кольцо со стеклянной вставкой (рис. 6, 1, 2).
Погребение № 10. Размеры могильной ямы: 153×19–20×10 см. Яма узкая, длинная, с неровными недоработанными стенками, не законченная, глубина около 10 см.
Погребение № 11. Размеры могильной ямы: 178×30 (16)×36 см. Яма узкая, длинная, немного расширяющаяся в средней части, сужающаяся к северо-восточному концу (к ногам), с закругленными торцевыми стенками. Стенки камеры изогнутые, вертикальные. На дне ямы сохранились фрагменты черепа у юго-западной стенки, а также небольшие фрагменты локтевой кости, ребер.
Погребение № 12. Размеры могильной ямы: 182×29–32×35 см. Яма узкая, длинная, подпрямоугольной формы. Продольные боковые и юго-западная торцевая стенки – прямые, противоположная северо-восточная стенка – закругленная. На вертикальных стенках сохранились следы инструментов каменотеса. Судя по положению сохранившихся костей, погребенный (вероятно, женщина, 40-45 лет) был положен вытянуто на спине, со скрещенными на груди руками.
Погребение № 13. Размеры могильной ямы: 148×34 (20) ×26 см. Из-за хрупкости скалы нижняя часть могильной ямы сохранилась плохо. Яма узкая, подпрямоугольной формы, с закругленными углами. Судя по размеру, предназначалась для ребенка. Сохранились небольшие фрагменты черепа.
Погребение № 14. Размеры могильной ямы: 190×45 (20) ×28) см. Яма узкая, длинная, расширяющаяся в обе стороны в средней части, немного сужающаяся к северо-восточному краю, с закругленными торцевыми стенками. У западного края – мелкие фрагменты костей, в центре – фрагменты костей рук и ребер.
Погребение № 15. Размеры могильной ямы: 112×34 (25) ×27 см. Яма узкая, слегка расширяющаяся в юго-западную сторону, с закругленными торцевыми стенками. У юго-западного края обнаружены отдельные фрагменты черепа ребенка.
Погребение № 16. Размеры могильной ямы: 169×30 (20) ×30 см. Яма узкая, длинная, расширяющаяся в юго-западную сторону, с закругленной юго-западной торцевой стенкой и прямой северо-восточной. Скелет женщины (?), 50-55 лет, лежал вытянуто на спине, руки скрещены на груди.
Погребение № 17. Размеры могильной ямы: 187×31 (20) ×32 см. Яма узкая, длинная, с закругленными торцевыми стенками, расширяющаяся в центре и у юго-западного края, схематически воспроизводя тело человека (рис. 3, 2). Скелет женщины (?) 20-29 лет лежал вытянуто на спине со скрещенными на груди руками.
Погребение № 18. Размеры могильной ямы: 96×20–23×16 см. Камера расширяется в центральной части, торцовые стенки прямые. От детского скелета сохранились череп, кости рук и ног.
Погребение № 19. Размеры могильной ямы: 172×33 (24) ×32 см. Яма узкая, подпрямоугольной формы, с закругленными углами. Стенки вертикальные. Погребенный, вероятно, женщина, 45-55 лет, был положен вытянуто на спине, руки уложены на груди – правая кистью к сердцу, к сердцу, левая – к животу.
Погребение № 20. Размеры могильной ямы: 190×46 (33)×31 см. Яма узкая, длинная подпрямоугольной формы, с закругленными углами. Стенки вертикальные.
Погребение № 21. Размеры могильной ямы: 165×34–38×31 см. Яма узкая, длинная, с закругленными торцевыми стенками. Борта ямы вертикальные. Судя по положению отдельных, лежавших in situ костей ребенка 7-9 лет, он был положен вытянуто на спине. В могильной яме, рядом с черепом обнаружена глиняная пуговица (рис. 7, 1, 2).
Находки и датировка
В христианских могилах, датируемых Ранним и Развитым Средневековьем, сопутствующий инвентарь весьма скуден и представляет собой в основном украшения или фурнитуру одежды. Например, в каменных ящиках Лчашена, синхронных рассматриваемым захоронениям Агарака, были найдены только игла и булавка [17, табл. II, рис. 2, 3]. Среди предметов, найденных в скальных могилах Агарака, также представлены только два предмета – бронзовое кольцо и пуговица.
Пуговица была обнаружена в детском погребении № 21 (рис. 7). Она уплощенно-сферическая, диаметром 2,5 см, толщиной 1,6 см, с отверстием (диаметром 0,5 см) посередине, изготовлена из глины с песчаными примесями. Такие предметы, меньшие по размерам по сравнению с пряслицами, также считаются «костяшками» для счета. Подобные образцы известны из цитадели Лчашен [18, рис. 25, 2, 6].
Кольцо из погребения № 9 (рис. 6, 2) изготовлено из круглой бронзовой проволоки, к концам прикреплен круглый щиток со вставкой-литиком из синего стекла. Кольцо в хорошем состоянии, имеется лишь небольшое повреждение одного края геммы (напротив изображенного лица человека). На небольшой, овальной формы, плоской гемме (1,25×1,47 см) изображен бегущий влево бородатый мужчина, держащий поднятой перед лицом правой рукой скипетр, левая рука отведена назад. Человек одет в головной убор с круглым верхом и прикрепленными крыльями; на ногах обувь с отростками на задинке. По нашему мнению, фигура на гемме изображает бегущего Гермеса (Меркурия) с жезлом-кадуцеем в руке. Гемма-литик, вероятно, имеет греческое происхождение, возможно, боспорское. Заметим, что мы не нашли аналогов гемме из Агарака среди немалого количества гемм с образом Гермеса, на которых он изображен, как правило, в статичной стоячей позе [18, № 253–256, 309–310, 343–346, 369]. Подобные кольца датируются I–III вв. н.э. [19, №№ 1.61–1.79]. Заметим, что Агарак расположен на одном из древних торговых путей, проходившим через историческую провинцию (гавар) Арагацотн и ведшим к Черноморскому побережью, и, возможно, благодаря этому кольцо и оказалось в Агараке.
Мы не имеем данных для точной датировки скальных могил Агарака. Приведенные в качестве аналогий скальные могилы Мецамора, Мецадзора и Ереванского ботанического сада также не имеют датирующих материалов. Относительным датирующим признаком является христианская погребальная обрядность памятника. Упомянутые выше могилы в раннехристианском культовом пещерном комплексе в Арцахе являются частью скального комплекса (церковь, культовые платформы, могилы и др.). Из культурного слоя вокруг могил происходит керамика I–III вв. Исследователи, изучив обнаруженные в этом комплексе древние изображения крестов, греческие и армянские надписи, пришли к выводу, что этот раннехристианский комплекс функционировал как до, так и после изобретения армянской письменности. А обнаруженная в комплексе древнеармянская надпись повторяет дукт древнеармянской надписи V в., выявленной в Иерусалиме [13, с. 171–173].
Все могилы Агарака имеют характерную для христианской традиции ориентацию в западный, точнее юго-западный сектор, вытянутое на спине трупоположение со скрещенными на груди или вытянутыми вдоль туловища руками. В большинстве своем, как отмечалось выше, они безынвентарны, что также характерно для христианских захоронений. Найденное кольцо, относимое к первым векам н.э. и имеющее следы длительного ношения, могло быть в пользовании и позднее – в IV–V вв. н.э.
На относительную датировку могил указывает и тот факт, что позднеантичная виноградодавильня рядом с погр. № 6 была повреждена при подготовке могильной ямы. Это указывает на то, что могилы хронологически являются более поздними, и можно предположить, что в определенный период времени северная часть скальной площадки была заброшена и ее территория стала использоваться как раннехристианское кладбище. Таким образом, на основании вышеизложенных косвенных фактов мы склонны датировать скальные захоронения Агарака Ранним Средневековьем, уже IV–V веками.
Анализ антропологических материалов
Анализу подверглись более удовлетворительно сохранившиеся костные останки из погребений №№ 9, 12, 16, 17, 19, 21.
Погребение № 9. Взрослый (индивидуум № 1) и ребенок (индивидуум № 2).
Индивидуум № 1. Останки индивидуума принадлежат мужчине 50-55 лет. Сохранность костей плохая. Обнаружены фрагменты костей черепа, ключицы, правой лопатки, ребер, лобковых, плечевых, локтевых, лучевых, пястных, фаланг и тел позвонков.
Краниоскопия. Из генетических аномалий (дискретно-варьирующих признаков) на черепе фиксируются: os zygomaticum bipartitum, foramina zygomatico facialia, processus frontalis ossis zugomatici (отросток), os wormii suturae squamosum, foramina parietalia, os apices lambda, sutura mendoza, foramina mastoidea (на шве, вне шва).
Остеология. Наибольшая длина правой плечевой кости попадает в градацию средних размеров. Поперечный диаметр головки плечевой кости попадает в градацию больших размеров при среднем вертикальном. Указатель прочности соответствует категории очень больших величин. Развитие мышечного рельефа на костях скелета. На внутренней (место прикрепления внутренней крыловидной мышцы m. Pterygoideus medialis) поверхности угла правой стороны нижней челюсти и наружной (место прикрепления жевательной мышцы m. masseter) бугристость выражена отчетливо. У индивида фиксируются затылочные структуры (затылочный валик (TOT), позади сосцевидный отросток (PR), надсосцевидные бугорки (TST)). Развитие TOT у индивида оценивается баллом 1, PR – баллом 2, TST – баллом 2. Образование затылочных структур связано с реакцией организма человека на физическую нагрузку, хроническую (многократную) микротравму [16, с. 110]. Мышечная реакция на ключицах сильная. Сохранились только плечевая кость и фрагменты конечностей. Наблюдается сильное развитие гребней малого бугорка, межбугорковой борозды и дельтовидной шероховатости.
Патология. Выявлена прижизненная травма левого 7 ребра. Наблюдается нарушение анатомической целостности костной ткани в результате удара в области грудной клетки. Фиксируется частичное заживление трещины. На позвонках грудного отдела отмечены межпозвоночные грыжи или узлы Шморля. Поротический гиперостоз наблюдается у правого ушного канала.
Индивидуум № 2. Останки принадлежат ребенку 5-6 лет. Сохранность костей плохая. Обнаружены фрагменты костей лопатки (левой), подвздошных, плечевых, локтевых, лучевых, бедренных и тел позвонков.
Патология. У ребенка пористость и пороз костей наблюдается на костях посткраниального скелета (в области верхнего эпифиза бедренных костей). Дифференциальная диагностика данной палеопатологии может включать инфекционное заболевание или витаминную недостаточность. Наблюдается изъеденность и разрушение (wedge-shape vertebra) тел грудных и поясничных позвонков. Изъеденность и разрушение позвонков перекликаются симптомами туберкулеза.
Погребение № 12. Останки индивидуума принадлежат, вероятно, женщине 40-45 лет. Сохранность костей плохая. Обнаружены фрагменты костей ключицы, лопатки, ребер, грудины, лобковых, плечевых, локтевых, лучевых, бедренных, берцовых, пястных, фаланг и позвонков. На длинных костях фиксируются следы зубов животных.
Одонтология. Форма лингвальной поверхности медиального резцов – лопатообразная.
Остеология. Наибольшая длина правой плечевой кости попадает в градацию средних размеров. Указатель прочности соответствует категории очень больших величин. Физиологическая длина левой лучевой кости средней длины. Верхняя часть диафиза левой локтевой кости характеризуется гиперэуроленией. Длина бедренной кости попадает в градацию средних размеров, сечение характеризуется гиперплатимерией (правая) и платимерией (левая). Большеберцовые кости характеризуются средними значениями продольных размеров. По указателю платикнемии для левой стороны свойственна эурикнемия. Длина тела индивида (167,8 см) попадает в рубрикацию «средняя».
Развитие мышечного рельефа на костях скелета: перегруженность мускулатуры пояса верхних конечностей – средняя. На плечевых костях наблюдается очень хорошее развитие малого бугорка, межбугорковой борозды и дельтовидной бугристости. Также отмечается мышечная гиперфункция на ключицах и фрагментах лопатки. На левой лучевой кости развиты лучевые шероховатости, что является отражением соответствующего развития мышцы, сгибающей плечо и предплечье, т.е. участвующей в процессе поднимания тяжести. Локтевой кости присуще достаточно хорошее развитие гребня квадратного пронатора. На тазовых костях обнаружены следы значительных функциональных нагрузок на связки лонного сочленения. На местах прикрепления верхней и дугообразной связок лобка сформировались признаки энтезопатии. На симфизиальной поверхности правой лобковой кости выражены участки лизиса костной ткани в виде округлых отверстий диаметром 1-2 мм. Хорошо развита ягодичная бугристость и шероховатая линия бедренных костей. Рельеф на задней поверхности обеих большеберцовых костей, соответствующий линии камбаловидной мышцы (третьей головки трехглавой мышцы голени), развит слабо.
Патология. Наблюдается проникающая травма левого 9-го ребра острым орудием. Место внедрения обломанного острия по обоим краям повреждения фиксируются трещины, которые развивались поперечно краю повреждения. Смерть индивида наступила практически сразу же после нанесения травмы. У индивида отмечены дегенеративно-дистрофические поражения позвоночного столба, которые вкупе со степенью развитости мышечного рельефа дают возможность сделать предположение, что индивид систематически подвергался физическим нагрузкам. Эмалевая гипоплазия обнаружена на клыках, премолярах, молярах нижней челюсти. Выявлены зубной камень на медиальном резце и слабая форма гипоплазии эмали.
Погребение № 16. Останки индивидуума принадлежат, вероятно, женщине 50-55 лет. Сохранность костей плохая. Обнаружены фрагменты костей черепа, лопатки, ребер, крестца, подвздошных, лобковых, плечевых, локтевых, лучевых, бедренных, берцовых, пяточных, пястных, фаланг и тел позвонков.
Краниоскопия. Из генетических аномалий (дискретно-варьирующих признаков) на черепе фиксируются только sutura incisive и слабая форма небного валика (torus palatinus: балл 1).
Остеология. Строение верхней части диафиза правой локтевой кости нормальное, сечение не имеет специализированной формы (эуроления). Развитие мышечного рельефа на костях скелета: фиксируются на черепе затылочные валика (TOT), развитие призника оценивается баллом 1 (т.е. слабое). На проксимальной фаланге обнаружены следы функциональных нагрузок, развитие признака среднее.
Патология. Альвеолярный абсцесс присутствует. Заболевание отмечено в области левого верхнего второго премоляра. Заболевания такой этимологии образуются вокруг верхушки корня зубов в результате воспаления или попадания инфекции в его пульпу. Возникновение воспалительных процессов вокруг верхушки корня обычно провоцируют такие патологии, как кариес, травма, сильная стертость зубной поверхности или болезни периодонта. Наблюдается прижизненная утрата левого первого верхнего премоляра. Остальные зубы были утеряны. У индивида отмечены дегенеративно-дистрофические поражения позвоночного столба (остеофиты, узлы Шморля).
Погребение № 17. Останки индивидуума принадлежат, вероятно, женщине 20-29 лет. Сохранность костей плохая. Обнаружены фрагменты костей черепа, ключицы, лопатки (правой), ребер, крестца, подвздошных, лобковых, плечевых, локтевых, лучевых, бедренных, берцовых, пяточных, пястных, фаланг и позвонков.
Краниоскопия. Из генетических аномалий (дискретно-варьирующих признаков) на черепе фиксируются: os wormii suturae squamosum, foramina mastoidea (на шве, вне шва), sutura mendosa.
Остеология. Левая плечевая кость малой длины, наименьшая окружность диафиза характеризуется как малая. Указатель прочности средний. Строение верхней части диафиза правой локтевой кости характеризуется эуроленией, левой – платоленией. Длина правой бедренной кости относится к категории малых величин. Указатель поперечного сечения верхней части диафиза характеризуется платимерией. Большеберцовые кости малой длины, по указателю сечений диафиза характерна эурикнемия, наблюдаются также дополнительные суставные площадки на нижней суставной поверхности. Длина тела индивида (152,2 см) попадает в рубрикацию «малая».
Развитие мышечного рельефа на костях скелета. Фиксируются на черепе затылочные валики (TOT), развитие признака оценивается баллом 1 (слабое). На ключицах мышечная реакция сильная. На левой плечевой кости наблюдается ниже среднее развитие малого бугорка, межбугорковой борозды и дельтовидной бугристости. На локтевых костях наблюдается достаточно хорошее развитие дистального латерального гребня, к которому прикрепляется квадратный пронатор. На фрагменте правой локтевой кости в дистальном отделе диафиза выявлено разрастание гребня квадратного пронатора. Эта мышца вращает предплечье внутрь. Значительно выступает над уровнем тела правой бедренной кости linea aspera. Рельеф на задней поверхности обеих большеберцовых костей, соответствующий линии камбаловидной мышцы, развит средне.
Патология: у женщины фиксируются поротический гиперостоз орбит (cribra oribitalia) и правого ушного канала. У индивида фиксируется частичное разрушение правого сосцевидного отростка. Разрушение сосцевидного отростка, возможно, связано с воспалением среднего уха (среднего отита). Признаки ушного экзостоза у женщины с правой стороны. Степень развития ушного канала достигает четвертой стадии, заполняя пространство слухового прохода более чем на 75%.
Погребение № 19. Останки индивидуума принадлежат, вероятно, женщине 45–55 лет. Сохранность костей плохая. Обнаружены фрагменты костей черепа, ключицы, лопатки (левой), ребер, крестца, подвздошных, лобковых, плечевых, локтевых, лучевых, бедренных, берцовых, пяточных, пястных, фаланг и позвонков.
Краниоскопия. Из генетических аномалий (дискретно-варьирующих признаков) на черепе foramina zygomatico facialia, processus frontalis ossis zygomatici (прямой), os wormii suturae squamosum, foramina parietalia, os wormii suturae lambdoidea.
Остеология. Сохранились некоторые кости конечностей. Наименьшая окружность диафиза плечевой кости попадает в категорию малых значений. По абсолютным размерам лучевые и правая локтевая кости характеризуются средними значениями. Верхняя часть диафиза локтевой кости характеризуется эуроленией. Длина тела, рассчитанная по наибольшей длине лучевой и локтевой костей, равна 157,5 см.
Развитие мышечного рельефа на костях скелета. Затылочные валики (TOT) – среднеразвитые. Перегруженность мускулатуры пояса верхних конечностей была выше средней. Наблюдается хорошее развитие гребней малого бугорка, межбугорковой борозды и дельтовидной шероховатости. На локтевых костях значительно развита локтевая бугристость, а также гребни пронатора. Помимо сильного развития межкостного гребня, в дистальном отделе диафиза выявлено разрастание гребня квадратного пронатора. Эта мышца вращает предплечье внутрь. Возможно, гипертрофия места ее крепления говорит о значительном усилии при выполнении такой функции. Также отмечается мышечная гиперфункция на ключицах и фалангах.
На фрагментах тазовых костей обнаружены следы значительных функциональных нагрузок на связки лонного сочленения. На фрагменте симфизиальной поверхности правой лобковой кости выражены участки лизиса костной ткани в виде округлых отверстий диаметром 1–2 мм. Вероятность развития симфизита наблюдается у индивидов, имеющих патологию костей и суставов, а также при беременности или после родов. У головки бедренных костей наблюдается костный наплыв. Перегруженность мускулатуры пояса нижних конечностей была средней. На фрагментах бедренных костей хорошо развита межвертельная линия, которая фактически имеет вид гребня, значительно выступая над уровнем тела кости, linea aspera и ягодичная шероховатость. Небольшие экзостозы зафиксированы на пяточных костях. Реконструкция физической активности позволило зафиксировать на исследуемом скелете признаки, связанные с верховой ездой.
Патология. У женщины фиксируется поротический гиперостоз у правого ушного канала. Признаки ушного экзостоза у женщины с правой стороны. Степень развития экзостоза ушного канала достигает третьей стадии (50%). У индивида отмечены дегенеративно-дистрофические поражения позвоночного столба (остеофиты).
Погребение № 21. Останки принадлежат ребенку 7–9 лет. Сохранность костей плохая. Обнаружены фрагменты костей черепа, ключицы (правой), лопатки (правой), крестца, копчика, седалищных, подвздошных, лобковых, плечевых, локтевых, лучевых, бедренных, берцовых, пястных, фаланг и тел позвонков.
Краниоскопия. Из генетических аномалий (дискретно-варьирующих признаков) на черепе фиксируются: foramina zygomatico facialia, processus frontalis ossis zygomatici (прямой), os wormii suturae squamosum, foramina parietalia, os wormii suturae lambdoidea.
Одонтология. Вестибуло-лингвальные (VLcor) диаметры коронок первых моляров попадают в категорию малых значений. Мезио-дистальные (MDcor) диаметры коронок первых моляров попадают в категорию средних значений. Форма лингвальной поверхности верхних резцов – лопатообразная. Гипоконус первых моляров слабо редуцирован (балл 4), также, как и метаконус (балл 2). На первых молярях фиксируются форма 3 первой борозды эоконуса (1ео, М 1). Нижние первые моляры 5-бугорковые, узор коронки «Y». На первом нижнем моляре обнаружены коленчатая складка метаконида (dw) и дистальный гребень тригонида (dtc).
Патология. У ребенка фиксируются внутричерепное давление, cribra orbitalia и поротический гиперостоз. Из патологических изменений зубной системы регистрируется слабо выраженная линейная гипоплазия эмали на резцах (судя по локализации дефекта, вероятный возраст образования гипоплазии 3–4,5 года и отложения зубного камня, слабо выраженные на резцах. У ребенка пористость и пороз костей наблюдается на костях посткраниального скелета. Морфологическая картина характерна для локальных оссифицированных геморрагий.
Небольшая группа, ставшая основой данного исследования, включает, в общей сложности, неполные скелетные останки 7 индивидов – 1 мужчины, 4 женщин и 2 ребенков. Распределение некоторых дискретно-варьирующихся признаков на черепе позволяет допустить наличие некоторых родственных связей между индивидами. У 4 индивидов фиксируются os wormii suturae squamosum, у 3 – foramina zygomatico facialia (вне шва), у 2 – processus frontalis ossis zygomatici (прямой), foramina parietalia, os wormii suturae lambdoidea, sutura mendoza, foramina mastoidea (на шве, вне шва). По одному разу отмечены: processus frontalis ossis zugomatici (отросток), foramina parietalia, torus palatinus, sutura incisive, os zygomaticum bipartitum, os apices lambda.
Одонтологический комплекс относится к южному грацильному типу. Из восточных признаков фиксируются лопатообразная форма лингвальной поверхности верхних резцов, коленчатая складка метаконида на первом нижнем моляре, дистальный гребень тригонида на первом нижнем моляре. Степень развития мышечного рельефа указывает на значительные физические нагрузки в процессе трудовой деятельности.
В ходе биоархеологического анализа 7 скелетов было выявлено у 2-х индивидов травмы посткраниального скелета. На 4 черепах фиксируется поротический гиперостоз наружного слухового прохода, у 2-х – cribra orbitalia. Следы локальных кровоизлияний (оссифицированных геморрагий) обнаружены на поверхности посткраниального скелета у двух детей и могут указывать на недостаток в пище витамина С (т.е. на детскую цингу). У одного ребенка выявлены туберкулезные очаги на скелете, у другого – внутричерепное давление. У 3-х индивидов отмечены дегенеративно-дистрофические поражения позвоночного столба. Признаки ушного экзостоза отмечены у 3-х индивидов. Слабо выраженной форме эмалевая гипоплазия была зафиксирована у 2-х индивидов. Возникновение данного признака связано из-за стресса, происходящего в организме ребенка при переходе от грудного вскармливания к постоянной пище. Также фиксируются зубной камень, прижизненная утрата зубов, альвеолярный абсцесс.
В целом, результаты изучения палеоантропологического материала из Агарака, дают первое представление об антропологических особенностях и состоянии здоровья раннесредневекового населения Армении и открывают путь для последующих исследований и сопоставлений в данном направлении.
Выводы
Скальные могилы, исследованные в северной части скальной платформы Агарака и представленные двумя типами, не имели широкого распространения в Армении (Мецамор, Мецадзор, Ереванский ботанический сад, Арцах). Как представляется, высеченные в скалах могилы представляют собой в похоронных традициях и религиозных устоях разновидность каменных саркофагов: они имели сходную погребально-религиозную смысловую нагрузку и в обоих случаях представляли собой скальную камеру, идея которой, возможно, восходит к древним языческим верованиям, связанным со скалами. Мы склонны считать, что открытый могильник, небольшой по размерам и по количеству представленных в нём скальных захоронений, представляет собой родовой некрополь. Недалеко от некрополя, в 170 м, в 2013 г. был раскопан один из немногих светских жилых комплексов (площадью 428 кв. м) раннесредневековой Армении, датируемый IV–VI вв. [20, с. 454–484]. Помимо комплекса в Агараке находится уникальная по своему пространственно-объемному решению и вписанная в систему оборонительных сооружений церковь Св. Аствацацин (Богородицы), датируемая концом IV–V вв. [21, с. 67–74].
1. Раскопки 2001–2008 гг. финансировались фондом «Gfoeller Renaissance Foundation» (США), руководитель армянского филиала Б. Гаспарян, руководитель экспедиции д.и.н. П. Аветисян.
Nora Yengibaryan
Institute of Archaeology and Ethnography National Academy of Sciences of the Republic of Armenia
Email: norayengibaryan@gmail.com
ORCID iD: 0009-0007-0508-1187
Armenia, Yerevan, st. Charents 15
PhD in History, Senior Researcher
Dianna Mirijanyan
Institute of Archaeology and Ethnography National Academy of Sciences of the Republic of Armenia
Author for correspondence.
Email: dianamirijanyan@gmail.com
ORCID iD: 0000-0001-8867-7849
Armenia, Yerevan, st. Charents 15
PhD in History, Senior Researcher
Lilit Ter-Minasyan
Institute of Archaeology and Ethnography National Academy of Sciences of the Republic of Armenia
Email: lilittm@rambler.ru
ORCID iD: 0000-0002-7291-3269
Armenia, Yerevan, st. Charents 15
Researcher, Architect
Anahit Khudaverdyan
Institute of Archaeology and Ethnography National Academy of Sciences of the Republic of Armenia
Email: akhudaverdyan@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-1458-783X
Armenia, Yerevan, st. Charents 15
PhD in History, Chief Researcher
- Avetisyan PS. Preliminary Results of Excavations of the Agarak Sites. Archaeology, Ethnology and Folklore of the Caucasus. Papers of International Conference. Edjmiatsin, 2003: 52-57. (In Russ)
- Avetisyan PS. Recently Found Archaeological Sites of Armenia (Agarak). Aramazd. Armenian Journal of Near Eastern Studies, Vol. III.2. Yerevan, 2008: 39-50.
- Khanzadyan EV. Gold of Armenia in the Late Bronze and Early Iron Ages, Metsamor. The Gold of Ancient Armenia (III mill. BCE – 14 cent. AD). Yerevan: Gitutyun, 2007: 122-128 (In Arm).
- Hobosyan SG., Gasparyan BZ., Harutyunyan HT., Saratikyan AA., Amirkhanyan AV. Armenian Culture of Vine and Wine, Yerevan: IAE, 2021.
- Kalantaryan IA. The Newly Discovered Rock-cut Mausoleum of Agarak. Culture of Ancient Armenia, Vol. XIII. Material of the Republican Scientific Session. Yerevan, 2005: 154-160 (In Arm).
- Karapetyan IA., Yengibaryan NG. The Burial Complexes of Agarak (preliminary report). Ancient Culture of Armenia, 2. Yerevan, 2002: 58-65. (In Arm)
- Apakidze A. Cities of ancient Georgia. Tbilisi: Metsniereba, 1968. (In Russ)
- Karelidze GL. Types of Burials of the IV-VI centuries in Eastern Georgia. International Scientific Conference “Archaeology, Ethnology, Folklore, History of the Caucasus”. Collection of abstracts. Tbilisi, 2010: 166-168 (In Russ)
- Asatryan EA. Excavations of the Talin Necropolis. Archaeological Discoveries of 1985. Moscow, 1987: 559-560. (In Russ).
- Asatryan EA. Monuments of Talin Region, Yerevan: Hushardzan, 2004. (In Arm)
- Arakelyan B. Subject reliefs of Armenia IV-VII centuries, Yerevan: ASSR Academy of sciences, 1949. (In Arm)
- Simonyan HE., Sanamyan HA. Monuments of Vankasar. Hushardzan (Monument). Annual. № 3. Yerevan, 2005: 159-178.
- Zhamkochyan A.S. Applied art samples from Ani, (according to the materials of Tigran Honents’ dynastic tomb). Ani. 1992; № 3-4: 81-85. (In Arm)
- Kalantaryan A.A., Sargsyan G. Rock Cut settlement of Spitak. Science and Technology. 1980; 4: 21-26. (In Arm)
- Khudaverdyan AYu. Bioarchaeological approaches to study on traces of artificial of influence on the skull (on the example of populations Bronze Age and Early Iron Age from the Armenia. Vestnik Arheologii, Antropologii I Etnographii. 2016; 1: 103-114.
- Tumanyan GS. The Burials Discovered During Excavations of the Trench H12 at Agarak Archaeological Complex. Aramazd. Armenian Journal of Near Eastern Studies. 2015; 9(2): 110-121.
- Tseretyan KVօ., Manaseryan NH., Mkrtchyan LA., Sanamyan HA, Simonyan HE. Main Results of the Central Citadel of the Lchashen Settlement. Armenia Maritima. Archaeological Heritage of the Land Uduri-Etiuni. Yerevan: IAE, 2022: 185-201. (In Arm)
- Spier J. Ancient Gems and Finger Rings, Catalogue of the Collections, The J. Paul Getty Museum. Malibu, 1992.
- Henig M., MacGregor A. Catalogue of the Engraved Gems and Finger rings in the Ashmolean Museum. II. Roman. Oxford: Archaeopress Publishing Ltd, 2004.
- Yengibaryan NG., Ter-Minasyan LR. The Early Medival Complex of Agarak. Systemizing the Past. Papers in Near Eastern and Caucasian Archaeology Dedicated to Pavel S. Avetisyan on the Occasion of His 65th Birthday. Ed. by Y. Grekyan, A. Bobokhyan. Oxford: Archaeopress Publishing Ltd, 2023: 454-484.
- Ter-Minasyan A.A., The one-nave basilica of Agarak. Herald of Social Sciences. 1979; 7: 67-75. (In Arm)
Supplementary files
There are no supplementary files to display.