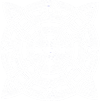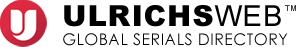INTEGRATION AND ADAPTATION OF FOREIGN STUDENTS IN THE URBAN ENVIRONMENT OF SOCHI (BASED ON THE EXAMPLE OF TURKMEN)
- Authors: Belozerova M.V.
- Issue: Vol 21, No 1 (2025)
- Pages: 184-193
- URL: https://caucasushistory.ru/2618-6772/article/view/17176
- DOI: https://doi.org/10.32653/CH211184-193
Abstract
The purpose of the study is to identify the mechanisms for the formation of communication connections, integration and adaptation of Turkmen students to the urban environment of Sochi. They study at the Sochi Institute (branch) of the RUDN University. Migration has social consequences. They manifest themselves in processes: the socio-cultural life internationalization, the emergence of crisis phenomena in the economy and others. Therefore, the task of studying these processes among foreign students, regardless of their ethnic, religious, ideological, and social affiliation, is relevant. The results of the study allow us to analyze experience at the regional level. This experience is relevant at the stages of management decisions development, adoption and implementation. The principles of systemic and process approaches, comparative typological and comparative analysis, methodological approaches of «securitization» and «case study» were used in the study, methodological approaches of «securitization» and case-studies were used. The sampling method made it possible to determine a group of students (Turkmens), to carry out the research on a chronological basis (2023-2024) and a territorial principle (the city of Sochi, Krasnodar region) – «a case». The study used special methods: questionnaires and interviews, the method of primary statistical data processing, and the technique of reflecting the obtained indicators in the form of diagrams. An analysis of sources is given: published legislative acts of the Russian Federation and Turkmenistan on the problems of educational migration and the results of a questionnaire survey, interview data. Conclusions are drawn on this basis. This is a fast pace of adaptation of Turkmen students to the conditions of a foreign language and foreign cultural environment in the city. The factors that shaped social communications were identified: studying in groups with a mixed ethnic composition, the distance of the university from the place of residence and others. The reasons for the misunderstanding between the Turkmens and the local population are shown in the article. Attention is focused on the issue of the possibility of forming a Turkmen diaspora in Sochi.
Интеграция и адаптация иностранцев в принимающей стране является актуальной проблемой исследований, касающихся современного общества. Международная образовательная или учебная миграция является частью большой проблематики внешних миграций населения, следствием которых становится интернационализация социально-культурной жизни общества, возникновение кризисных явлений в экономике, усиление напряженности. В этих условиях заостряется проблема интеграции и адаптации иностранных студентов, формирования и развития межкультурной коммуникации, конструктивного взаимодействия, поведенческих привычек между гражданами не зависимо от их национальности, религиозных верований, мировоззрения, стиля мышления, принадлежности к социальной страте. К началу 2020-х годов была зафиксирована тенденция увеличения численности иностранных студентов из стран СНГ в вузах РФ [1]. Ряд высших учебных заведений еще в советское время имел значительный опыт в подготовке квалифицированных специалистов для зарубежных стран, другие вузы столкнулись с подобной ситуацией недавно. Расширилась их география и профиль обучения. Изучение процессов интеграции и адаптации студентов-иностранцев к реалиям российской действительности, в том числе на региональном уровне, позволяет проанализировать складывающийся опыт, что актуально при выработке, принятии и реализации управленческих решений. Актуализирует проблематику также то, что она соотносится с курсом Российской Федерации в образовательной политике.
Историография по данной тематике характеризуется разнообразным спектром поднимаемых проблем. К первой группе были отнесены работы, в которых российские исследователи, используя теоретические и практические разработки зарубежных коллег [2; 3], аргументировали типологию миграций, рассматривали корреляцию образовательной миграции с миграционными процессами в целом, теоретические проблемы диаспор [4; 5]. Ко второй группе отнесены исследования, посвященные анализу нормативно-правовой документации по образовательной миграции, актов по ее стратегическому планированию [6], нормативно-правовой регуляции образовательной миграции в России [7]. В третью группу включены работы, авторы которых изучали различные аспекты образовательной миграции: состояние и перспективы развития международного рынка образовательных услуг, интернационализации высшего образования, роли России на международном рынке образовательных услуг [8]1, социальные аспекты образовательных миграций из стран СНГ [9]. Образовательная миграция рассматривалась в качестве «инструмента» трансляции «политических ценностей» [10], изучались социальные последствия учебной иммиграции для России [11], регионов и вузов, особенности формирования миграционной политики в сфере привлечения иностранных «учебных» мигрантов [12]. Следует отметить монографические исследования, авторами которых в рамках изучения образовательной миграции был поставлен вопрос о значении государственных образовательных и культурных учреждений России «как агентов» адаптации и интеграции [13, с. 114; 14; c. 110―126]. Внимание некоторых исследователей акцентировалось на опыте академической, социокультурной и языковой адаптации иностранных студентов из азиатских стран [1; 15].
Проведя анализ научной литературы, можно констатировать, что большую часть работ составляют политологические и социологические исследования. В то же время следует акцентировать внимание на том, что поднимаемые проблемы являются предметом и исторических исследований, и этнологического регионоведения. В данном аспекте вопросы интеграции и адаптации иностранных студентов в России требуют более подробного освещения.
Объектом данного исследования определены студенты из Туркмении, прибывшие для обучения в Сочинский институт (филиал) РУДН им. Патриса Лумумбы (далее: СИ (филиал) РУДН). Предметом – интеграция и адаптация студентов-туркменов в городскую среду Сочи, как крупного туристического, курортного, культурного, научного и образовательного центра в трансграничной зоне юга России. Целью работы стало выявление механизмов интеграции и адаптации студентов-иностранцев в условиях иноязычной и инокультурной среды. Нами были поставлены задачи: анализ историографии по проблематике; определение круга источников; разработка анкеты и проведение анкетного опроса студентов-туркменов, интервью с ними и преподавателями вуза, их анализ; выявление складывающихся социально-культурных коммуникаций в городской среде Сочи.
В качестве методологической основы исследования послужили принципы системного и процессного подходов, которые позволили сосредоточить внимание на участниках процесса – иностранных студентах из Туркмении и на системе коммуникационных связей, формируемых при решении вопросов их интеграции и адаптации в городскую среду. При анализе историографических данных, выборе источников и их группировке использовались сравнительно-типологический и компаративный подходы. Выборочный метод позволил определить группу анкетируемых и интервьюируемых студентов и преподавателей, выполнить исследование по хронологическому (2023–2024 годы) и территориальному (Муниципальное образование Городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края) принципам. В исследовании были использованы специальные методы – анкетный опрос и интервью. С этой целью автором в 2023 г. была разработана анкета. При анализе ответов на поставленные вопросы и их группировке использовался структурно-типологический подход. Результаты анкетирования и интервьюирования отражают мнение респондентов по поставленным задачам. В исследовании были использованы: метод первичной статистической обработки данных, техника отражения полученных показателей в форме диаграмм.
Проблема рассматривалась также во взаимосвязи с методологическим подходом теории секьюритизации [16, c. 172–173, 179; 17]. Это продиктовано тем, что любой вопрос в общественном дискурсе может стать политизированным и нести вызовы для безопасности в обществе.
В работе использовался методологический подход «кейс-стади» («case-study»), где «кейс» – описание конкретной ситуации в какой-либо сфере – социальной, экономической, образовательной, культурной и т.п.; «стади» – исследование. Под «кейсом» понимаются как отдельные лица, сообщества, организации, так и процессы, события. Изучение кейсов имеет несколько этапов: 1) выбор кейса, 2) определение параметров кейса (социальная среда, физическая обстановка), 3) получение информации посредством интервью, наблюдения, анкетного опроса, анализа документов, 4) выработка решений. Методологический подход требует верификации результатов кейс-стади с другими источниками, чтобы исключить игнорирование фактов, не укладывающихся в сформулированную концепцию [18]. В целом, суть метода кейс-стади сводится к интеграции исследовательских стратегий, «использования данных различных источников, их анализа, различных методов сбора (количественных и качественных) информации» [19, c. 544, 547–548; 20]. Применение метода расширило сферу исследований (социология, история, этнология и др.), перечень объектов изучения и источниковых материалов. Это позволяет выявить явления повседневности, латентные ситуации, социально-экономические, исторические процессы, накапливать и систематизировать эмпирический материал. Суть метода кейс-стади определена ведущими теоретиками как «исследование единичной ситуации с целью понимания более широкого класса (схожих) случаев» [21, c. 255; 22, c. 198; 23]. В процессе решения поставленных задач в нашем исследовании методики использовались в комплексе.
В ходе исследования были выявлены источники, проведена их группировка. Использованы и проанализированы материалы следующих групп источников: 1) опубликованных материалов нормативно-правовой документации РФ и Туркмении по проблемам образовательной миграции; 2) результатов анкетного опроса; 3) данных интервью со студентами-туркменами и преподавателями СИ (филиала) РУДН. Часть из них вводятся в научный оборот впервые. Их данные позволили изучить некоторые ранее не акцентированные в научных работах вопросы.
Образовательная миграция в Российскую Федерацию осуществляется на основе соответствующих нормативно-правовых документов. В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» (2012) обозначены правовые основания организации и получения образования [24, с. 5], включая высшее и дополнительное профессиональное, иностранными гражданами на основе международных договоров РФ, федеральных законов, установленной Правительством РФ квотой на образование иностранных граждан или платных образовательных услуг2, соглашений с правительствами других стран. Приоритетный проект РФ и паспорт приоритетного проекта «Развитие экспортного потенциала российской системы образования» нацеливает на осуществление мер по совершенствованию и повышению привлекательности российского образования в вузах для иностранных студентов в течение 2017–2025 годов (2017)3. Концепция государственной миграционной политики РФ на 2019–2025 годы (2018) охватывает весь спектр целей внешних мигрантов на территории России. Но содержит и положения, относящиеся к образовательной миграции: право на получение разрешения на временное проживание иностранных студентов и аспирантов очной формы обучения в государственных образовательных учреждениях, меры по повышению доступности образовательных услуг. Обосновывает необходимость «социальной и культурной адаптации <…> иностранных граждан», в соответствии с программами и «в формате государственно-общественного партнерства» с привлечением «общественных и образовательных организаций, учреждений культуры и спорта»4. В 2024 г., как и в предыдущие годы, был утвержден План мероприятий по реализации Концепции в 2024―2025 гг., согласно которому в сфере образования для обучающихся предусматривалось: увеличение выдачи электронных виз; разработка методических рекомендаций для образовательных организаций высшего образования, по содействию адаптации иностранных студентов, в частности мероприятий по социальной и культурной адаптации; проведение социологических исследований по оценке состояния межнациональных отношений и др.5
Таким образом, в нормативно-правовых документах зафиксировано понятие «образовательная миграция» и необходимость проведения исследований по социальной и культурной адаптации студентов-иностранцев. В научной литературе помимо «образовательной» [7], встречаются дефиниции «учебная миграция», «академическая миграция» [13, c. 114].
Сотрудничество в области образования между РФ и Туркменией осуществляется на основе такого документа, как «Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Туркменистана о сотрудничестве в области культуры, образования и науки» (1995), которое предусматривает развитие «прямых партнерских связей в области образования» прежде всего между вузами6.
Для решения поставленных в данном исследовании задач по интеграции и адаптации студентов-туркменов к городской среде Сочи были проанализированы мнения выпускников-туркменов, обучавшихся в 2023 г. на 4 курсе по специальности «История» отделения «бакалавриат» (кейс). В 2024 г. для уточнения ряда вопросов было проведено интервьюирование с преподавателями и студентами-туркменами 3 и 4 курсов. В предложенной анкете «Проблемы адаптации и межкультурного взаимодействия иностранных студентов в Сочинском институте (филиале) РУДН им. Патриса Лумумбы» определены: цели – дать оценку состояния межкультурных отношений, определить проблемы интеграции и адаптации студентов-иностранцев; задачи – выявить темп адаптации студентов-туркменов в городской среде; определить факторы, влияющие на этот процесс, проблемы, возникающие в ходе адаптации; рассмотреть возможность формирования туркменской диаспоры на Черноморском побережье РФ. В анкете содержалось 36 вопросов. Один раздел касался личной информации (ФИО респондента, мест проживания в Туркмении и Сочи, возраста, гендерной принадлежности). Основная часть охватывала вопросы формирования социальных коммуникаций, межкультурного взаимодействия. В статье изложены результаты анкетного опроса, на основании анализа которых составлены диаграммы (далее: «Анкета»)7.
В вузе молодежь из Туркмении обучается с 2002 г.8. Список вузов и студентов был определен межправительственным соглашением Российской Федерации и Туркмении. Обучение – платное, оплата составляла до 140,0 тысяч рублей. По данным студентов-туркменов, деньги на обучение они собирали в кругу родственников на возвратной основе. Статус бакалавра в Туркмении достаточен для успешного устройства на работу. После возвращения на родину их место работы будет светским, не религиозной ориентации9. Гендерная принадлежность студентов: 25 юношей и 9 девушек, 5 человек не указали пол. Возрастной состав: 20–25 лет – 14 человек, 26–29 лет – 12 человек, 30–36 лет – 7 человек, остальные не указали свой возраст. В диаграмме (рис. 1) возрастной состав студентов отражен более подробно.

Рис. 1. Возрастной состав студентов из Туркмении. Составлено по: «Анкета».
Личный архив (ЛА) М.В. Белозёровой, 2023–2024 гг. С. 9
Fig. 1. Age composition of Turkmen students. Compiled from: «Questionnaire».
Author’s personal archive, 2023-2024. P. 9
До поступления в вуз студенты проживали в Туркмении в городах велаятов – провинций/областей (58,9 %), этрапов – районов (20,5 %), в сельских населенных пунктах (17,9 %), не указали местожительство 2,7 % анкетируемых.
Рассматривая вопросы интеграции студентов-туркменов в городскую среду Сочи и их адаптации, важными вопросами были об удаленности их места проживания от вуза. Распределение ответов отражено на диаграмме (рис. 2). В период обучения они в основном проживали в Сочи (53,8 %) и Адлере (33,3 %), 12,8 % студентов не указали местожительство10.
Почти всем студентам (около 87,2 %) было удобно добираться до места учебы, затруднились ответить – 2,6 %, не ответили – 10,3 %. До вуза добирались в основном общественным транспортом: на автобусах – 33,3 %, маршрутных такси – 12,8 %, такси (без уточнения на маршрутным или собственно такси) – 41,0 %, пешком – около 7,7 %, на личных машинах – 5,1 %. Основная их часть отнеслась к удаленности местожительства от вуза положительно (82,1 %), так как «очень помогало» в интеграции, потому что «приходилось общаться с большим количеством людей, зачастую не являющихся студентами»; 7,7 % отметили, что отчасти помогало «включению» в ритмичную жизнь большого города; остальные (10,2 %) не ответили на данный вопрос11.

Рис. 2. Удаленность СИ (филиала) РУДН от места проживания студентов-туркменов.
Составлено по: «Анкета». ЛА автора, 2023-2024 гг. С. 3
Fig. 2. The distance of the Sochi Institute (branch) of RUDN University from the place of residence of Turkmen students.
Compiled from: «Questionnaire». Author’s personal archive, 2023-2024. Р. 3
Студенты-туркмены, как правило, в Сочи и Адлере снимали жилье – в основном двухкомнатные квартиры, в которых проживало до пяти человек12. Стоимость съема квартиры составляла около 35,0 тыс. рублей в месяц. Такую же сумму они оплачивали как первичный/страховочный взнос. Помощь в съеме квартир оказывали знакомые или старшекурсники.
Наиболее важными стали вопросы межэтнического и межкультурного общения как в анкете, так и в интервью. Студенты-туркмены были распределены в студенческие группы со смешанным этническим составом13. При этом и сами студенты-туркмены (около 59 %) хотели бы обучаться в полиэтничных группах, что аргументировали следующим (могли выбрать несколько ответов): «так проще найти общий язык и взаимопонимание» – 18 человек, «общий язык помогает в обучении» – 18 человек; «интересны другие национальности и их традиции» (около 36 %), «Сочи – многонациональный город, здесь необходимо поддерживать отношения с представителями разных этносов» (53,8 %). При этом значительная часть студентов (около 36 %) хотела бы обучаться на русском языке. Для быстрейшей интеграции и адаптации к городской среде Сочи и вузу студентов-туркменов курировал преподаватель, и к ним был прикреплен сокурсник, который хорошо знал русский язык14. Все обучающиеся общались со студентами и местными жителями Сочи.
Юноши-туркмены подрабатывали в строительных бригадах в Сочи. Эта практика сохраняется и в настоящее время. Бригады – полиэтничны, включают представителей разных этносов (русских, армян и других). Выход на работодателя осуществлялся через знакомых или родственников15.
В целом, студенты достаточно быстро интегрировались и адаптировались в городской среде Сочи, что подтвердили около 97,4 % респондентов16. Этому способствовали и такие факторы, как посещение мечети, расположенной в сельской местности17, ограничение для большинства из них возможности поездок домой в период обучения18. То есть они в течение четырех лет практически полностью были «погружены» в иноязычную и инокультурную среду. На родном языке они общались только между собой. Тем не менее, анализ ответов в анкете показал, что они сталкивались с бытовым недопониманием со стороны местных жителей (рис. 3) в основном при съёме жилья19, иногда со студентами (рис. 4).

Рис. 3. Частота случаев недопонимания со стороны представителей других этнических групп.
Составлено по: «Анкета». ЛА М.В. Белозёровой, 2023-2024 гг. С. 3
Fig. 3 Frequency of cases of misunderstanding of other ethnic groups.
Compiled from: «Questionnaire». Author’s personal archive, 2023-2024. Р. 3
Недопонимание студенты связывали с тем, что местные жители не знают менталитета, особенностей языка и традиций туркменов (30,0 %); студенты-туркмены не знают языка и традиций местных жителей (46,2 %); отсутствовали общие интересы с однокурсниками (7,7 %); остальные не объяснили свою позицию (рис. 4).

Рис. 4. Причины недопонимания между местными жителями и студентами-туркменами.
Составлено по: «Анкета». ЛА М.В. Белозёровой, 2023-2024 гг. С. 6
Fig. 4. Reasons for misunderstanding between local residents and Turkmen students.
Compiled from: «Questionnaire». Author’s personal archive, 2023-2024. P. 6
Интересен взгляд студентов на вопросы, связанные с необходимостью воспитания терпимости к культурной самобытности других этносов (рис. 5). Большинство из них считает, что такая потребность назрела (46,1 %). По их мнению, воспитанием терпимости должны заниматься сами студенты (46,1 %), столько же посчитали, что этим должны заниматься государственные учреждения (вузы, музеи, библиотеки и др.). То есть выбранные варианты ответов равнозначны.

Рис. 5. Мнение респондентов о терпимости к культурной самобытности этносов.
Составлено по: «Анкета». ЛА автора, 2023-2024 гг. С. 8
Fig. 5. Respondents’ opinions about tolerance towards the cultural identity of ethnic groups.
Compiled from: «Questionnaire». Author’s personal archive, 2023-2024. Р. 8
В исследовании был сделан ряд выводов. В работе рассматривались вопросы интеграции, адаптации, формирования социальных коммуникаций и межкультурного взаимодействия студентов-туркменов в Сочинском институте (филиале) РУДН (кейс 2023–2024). Результаты анкетирования свидетельствуют о достаточно быстрой их интеграции в крупном городе как курортном, культурном, образовательном, научном центре, и адаптации к условиям иноязычной и инокультурной среды. Этому способствовал ряд таких факторов, как обучение в группах со смешанным этническим составом, удаленность вуза от местожительства, возможность добираться до места учебы и в мечеть на общественном транспорте, съем жилья, подработка в строительных бригадах с полиэтничным составом работников, кураторство преподавателя и сокурсников.
В повседневной жизни студенты-туркмены сталкивались с недопониманием иногда со студентами, но главным образом в бытовой сфере (в основном при съеме жилья) со стороны местных жителей. Они это связывали с незнанием менталитета, особенностей языка и традиций туркменов, неосведомленностью студентов-туркменов с языками и традициями местных жителей, отсутствием общих интересов с однокурсниками-россиянами. Большая часть опрошенных считало, что назрела потребность воспитания терпимости в обществе к культурной самобытности других народов. Этим должны заниматься как государственные учреждения, так и сами приезжие.
Одним из актуальных вопросов исследования был о возможности формирования туркменской диаспоры. В политологическом аспекте «диаспора» рассматривается как «пребывание части народа (этнической общности) вне страны его происхождения» [25] в силу социально-исторических, экологических, политических и других обстоятельств. В этнографии «диаспора» интерпретируется как этническая внутренне единая общность в иноязычном окружении. К диаспорам относят этнические группы, проживающие вне своей родины, или вне территории происхождения и жизни своего народа, одновременно сохраняющие связь с родиной. Применительно к выпускникам и студентам из Туркмении, отметим ряд аспектов. Все студенты-туркмены, обучавшиеся в СИ (филиале) РУДН, должны вернуться в Туркмению. В их перспективах не было стратегии покупки земли в Сочи, жилья, переезда родственников из Туркмении, так как это очень дорого. Также студенты подчеркивали, что большинство из них вернется на родину из-за существующих финансовых обязательств за обучение перед родственниками. Только часть наиболее обеспеченных студентов-туркменов могли выплатить долг во время учебы. В единичных случаях выпускники все-таки оставались в России, но уезжали в другие регионы РФ, где численность туркменов значительна, например, в Татарстан. Оставшиеся в РФ юноши-туркмены ориентированы в основном на получение работы в сфере строительства. Девушки – на работу в сфере услуг, общественного питания. Те выпускники, которые возвращались в Туркмению, ориентированы на трудоустройство по полученной в вузе специальности20.
Учитывая эти факторы, в настоящее время в Сочи не прослеживается устойчивой ситуации формирования туркменской диаспоры. Скорее можно говорить о, так называемом, «диаспоральном сообществе» [26], которое характеризуется устойчивостью сообществ («диаспоральная прочность»), способностью к интеграции в принимающее общество и адаптации, приему новых членов, готовностью поддерживать связи с родиной, сохранением этнического, культурного, языкового своеобразия.
1. Экспорт российского образования // Россотрудничество. Электронный ресурс. Доступно по ссылке: https://www.rs.gov.ru/%20/activities/10/projects/17
2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 19.12.2023) «Об образовании в Российской Федерации». Ст. 78. Электронный ресурс. Доступно по ссылке: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/61481667d956e25b4c53b1febedf53ed1121e78c/ (дата обращения: 11.04.2024).
3. Приоритетный проект «Развитие экспортного потенциала российской системы образования // Россотрудничество. Электронный ресурс. Доступно по ссылке: URL: http://government.ru/projects/selection/653/ (дата обращения: 15.03. 2024).
Паспорт «Развитие экспортного потенциала российской системы образования». Утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Протокол от 30 мая 2017 г. № 6. Электронный ресурс. Доступно по ссылке: http://government.ru/projects/selection/653/28013/ (дата обращения: 23.04.2024).
4. Указ Президента РФ от 31 октября 2018 г. № 622 «О Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025 годы» (с изменениями и дополнениями от 12 мая 2023 г.). ст. 111; 11 д; 23 а, г. Электронный ресурс. Доступно по ссылке: https://base.garant.ru/72092260/ (дата обращения: 23.04.2024).
5. Распоряжение Правительства РФ от 16 января 2024 г. N 30-р «О плане мероприятий по реализации в 2024-2025 гг. Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 гг.» п. 3; 22; 24; 38. Электронный ресурс. Доступно по ссылке: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/408306707/ (дата обращения: 08.04.2024).
6. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Туркменистана о сотрудничестве в области культуры, образования и науки от 18 мая 1995 года // Бюллетень международных договоров. № 3. Март 1996 г. Ст. 15, 16.
7. Личный архив автора, 2023–2024 гг. Анкета «Проблемы адаптации и межкультурного взаимодействия студентов-иностранцев в Сочинском институте (филиале) РУДН им. Патриса Лумумбы. 2023 г.» (далее: ЛА автора. «Анкета»). 9 с.
8. Личный архив автора. 2023–2024 гг. (Интервью) Интервью с заведующим кафедрой всеобщей истории, к. полит н. В.В. Бобылёвым. Л. 14.
9. ЛА автора. Интервью со студентами М. Азадовым, Ы. Хусейиновым, Б. Бекхановым. Л. 9, 13.
10. ЛА автора. «Анкета». С. 3, 4.
11. Там же. С. 4.
12. ЛА автора. Интервью с Х. Джангулыевым. Л. 9-10.
13. ЛА автора. Интервью с В.В. Бобылёвым. Л. 14.
14. ЛА автора. Интервью с В.В. Бобылёвым. Л. 14.
15. ЛА автора. Интервью со студентами Х. Мырадовым, Ёл. Хусейиновым, Д. Оразовым. Л. 9, 16.
16. ЛА автора. «Анкета». С. 6.
17. Там же. С. 8.
18. ЛА автора. Интервью со студентом М. Азадовым, Л. 9.
19. ЛА автора. Интервью со студентами Р. Доврановым, С. Доврановой. Л. 10.
20. ЛА автора. Интервью с В.В. Бобылевым, студентами Б. Бегхановым, Н. Халдаевым, Д. Оразовым. Л. 9, 13, 16.
Marina V. Belozerova
Subtropical Research Center of RAS
Author for correspondence.
Email: mbelozerowa@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-3156-2458
Russian Federation
Dr. Sci., Assistant. Prof., Principal Researcher
- Grigoryan AA., Popova EB. Teaching Russian to students from Turkmenistan. Filologicheskyi klass. 2021; 26(4): 302-315. doi: 10.51762/1FK-2021-26-04-27. (In Russ)
- King R. Theories and Typologies of Migration: An Overview and a Primer. Willy Brandt Series of Working Papers in International Migration and Ethnic Relations 3/12. Malmö University, 2012.
- Wells A. International Student Mobility: Approaches, Challenges and Suggestions for Further Research. Procedia – Social and Behavioral Sciences. 2014; 143: 19-24. doi: 10.1016/j.sbspro.2014.07.350.
- Arutyunov SA. Diaspora is a process. Etnograficheskoe Obozrenie. 2000; 2: 74-78. (In Russ)
- Poloskova TV. Diasporas in the system of international relations. Moscow: Nauchnaya kniga, 1998. (In Russ)
- Shitova NB. The concept of “educational migration”: reflection of the state and legal view in strategic planning acts. Journal of Legal Research. 2019; 4(4): 7-13. (In Russ)
- Vlasov SD., Panitskov AS., Nazintseva AYu. Some problems of legal regulation of educational migration in the Russian Federation. In: Actual problems and prospects of innovative agroeconomics. Saratov: Center for Social Agroinnovations of SSAU, 2020: 43-47. (In Russ)
- Galichin VA. International market of educational services: main characteristics and development trends. Moscow: Delo, 2015. (In Russ)
- Safonova MA. Social organization of educational migrations (on the example of student flow from Kazakhstan to Russia): abstract of the Cand. Sci. dissertation. Saint-Petersburg, 2011. (In Russ)
- Taishev VV. Value-political contexts of educational migration: abstract of the Cand. Sci. dissertation. Moscow, 2020. (In Russ)
- Volokh VA. International educational migration in modern Russia: features, problems and prospects. Social policy and sociology. 2017; 16(1 (120)): 80-87. (In Russ)
- Pismennaya EE. Social consequences of educational immigration to Russia (Issues of theory and research methodology): abstract of the Dr. Sci. dissertation. Moscow, 2009. (In Russ)
- Educational migration. Schools, universities, museums of Russia as agents of adaptation and integration. Tomsk: TSU, 2019. (In Russ)
- Samofalova EI. Educational migration to universities of Tomsk in the context of Russian Federation policy. In: Educational migration. Schools, universities, museums of Russia as agents of adaptation and integration: collective monograph. Tomsk, 2019; 3: 110-126. (In Russ)
- Antonova NL., Balykhina TM., Baranova II. et al. (eds). Chinese, Vietnamese, Mongolian educational migrants in the academic environment. Tomsk: TSU Publ., 2013. (In Russ)
- Belozerova MV. Problems and prospects for the preservation and development of folk art and crafts of the Adyghe (late 1990s – 2010s). History, archeology and ethnography of the Caucasus. 2024; 20(1): 169-182. DOI: https://doi.org/10.32653/CH201169-182.
- Buzan B. The “War on Terrorism” as the new Macro-Securitization. Oslo: Workshop papers, 2006: 1-25.
- Varganova GV. Case study as a method of scientific research. Bibliosphere. 2006; 2: 36-42. (In Russ)
- Mikhailov AS. Case study – research strategy or meta-method? Economy and Society. 2014; 3(12): 543-551. (In Russ)
- Harling K. An overview of case study. Paper presented at the learning workshop Case Studies: Their Future Role in Agricultural and Resource Economics. LongBeach, California. July 27, 2002 [Electronic resource]. Available at: https://www.academia.edu/78519736/An_Overview_of_Case_Study (date of access: 04.03.2024).
- Vlasova MG. Case study in international relations research: methodology and research practice. Theory and practice of social development. 2012; 11: 255-258. (In Russ)
- Tishchenko NV. Features of the application of the case study method in cultural studies. Theory and practice of social development. 2015; 10: 197-199. (In Russ)
- Gerring J. What Is a Case Study and What Is It Good for? American Political Science Review. 2004; 98(2): 341-354 [Electronic resource]. Available at: [http://www.jstor.org/stable/4145316?origin=JSTOR-pdf] (date of access: 03/04/2024).
- Belozerova MV. On the Problem of Tolerance and Intercultural Interaction in the Student Environment. Bulletin of the Kemerovo State University. 2011; 2(46): 5-9. (In Russ)
- Sporyshev PP. Diaspora: Phenomenon and Concept (Towards the Problem of Developing a Political Science Approach). Economic Strategies. 2009; 3: 122-127. (In Russ)
- Sporyshev PP. Russian Diaspora as an Object of Russia's Foreign Policy: Abstract of a Candidate of Political Sciences Dissertation. Moscow: Moscow State University, 2012. (In Russ)
Supplementary files
There are no supplementary files to display.