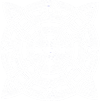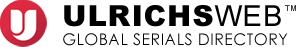“ARMENIAN” ELEMENT IN THE ORAL NARRATIVES OF THE AZERBAIJANIS OF NAKHCHIVAN
- Authors: Baranov D.А., Shorokhov V.А.
- Issue: Vol 20, No 2 (2024)
- Pages: 462-473
- URL: https://caucasushistory.ru/2618-6772/article/view/17074
- DOI: https://doi.org/10.32653/CH202462-473
Abstract
This paper aims to analyze the “Armenian” motifs found in the oral narratives of Azerbaijanis in Nakhchivan. The study is based on interviews recorded during fieldwork among Nakhchivan Azerbaijanis from 2021 to 2023. The research employs the concepts of cultural and communicative memory developed by J. Assman. The study reveals several recurring motifs in the informants’ stories: the idea of the non-indigenousness of Armenians in Nakhchivan; the “Albanization” of medieval material culture; the common ancestry of local Azerbaijanis and Armenians; memories of Armenian friends and neighbors; shared local practices and sacred places; and the motif of the “lonely elderly Armenian woman” that bridges the region’s past and present. A particularly noteworthy aspect is the concept of “kirva,” a tradition in Nakhchivan where artificial kinship is established between Armenians and Azerbaijanis for mutual support, leading to the formation of intergroup strong ties. The authors conclude that the presence of “Armenian” elements in the narratives of Nakhchivan Azerbaijanis reflects a certain “Armenian-centricity. The prominence of the “Armenian” layer in many stories might be explained by the Azerbaijani discourse’s dependence on the Armenian one, which manifests in an ongoing hidden form of dispute with competing historical narratives. In this sense, non-Azerbaijani perspectives on the region’s history and cultural heritage significantly contribute to the cultural memory of the Azerbaijanis of Nakhchivan.
Статья посвящена анализу «армянской темы» в нарративах азербайджанцев, характерные черты которой – ограниченный круг встречающихся мотивов, лексическое однообразие вплоть до совпадений, монолитность внутренней структуры, – позволяют интерпретировать ее как своего рода текст. Причем это такой текст, который, как будет показано ниже, до некоторой степени определяет специфику азербайджанского исторического дискурса в целом. Рамки статьи позволяют не углубляться в историографию армяно-азербайджанских «войн памяти», обострившихся в последние годы в связи с военно-политической обстановкой, тем более что этому вопросу посвящен целый раздел известной монографии В.А. Шнирельмана [1, c. 242–245]. В данной работе внимание сфокусировано на распространенных в рассказах азербайджанских информантов мотивах, то есть, совокупностях образов и / или эпизодов, объединенных «армянской» темой.
Материалом для исследования послужили интервью, записанные в ходе полевой работы у нахичеванских азербайджанцев в 2021–2023 гг. Подавляющее большинство информантов — мужчины в возрасте 40–60 лет, проживающие в Нахичеванской Автономной Республике. Целью полевых исследований было изучение сакральных ландшафтов края.
Нахичеванская Автономная Республика представляет собой расположенный на левом берегу Аракса гигантский эксклав Азербайджана, почти полностью окруженный территориями Ирана и Армении. За свою историю Нахичевань много раз переходила из рук одних правителей в руки других. В середине XVIII в. было образовано Нахичеванское ханство, отошедшее в 1828 г. в результате русско-персидской войны к Российской империи. Территория ханства стала частью Армянской области (1828–1840), недолго находилась в составе Грузино-Имеретинской (1840–1846), затем Тифлисской (1846–1849) губерний, потом Эриванской (1849–1917) [2, с. 120]. В результате Первой мировой войны, революции 1917 г. и развала Кавказского фронта на территории Нахичевани в 1918–1920 гг. происходили вооруженные столкновения армянских и мусульманских отрядов, резня с обеих сторон, турецкая и британская оккупация. На эту территорию претендовали и Республика Армения, и Азербайджанская Демократическая Республика. В 1920 г. была установлена советская власть и провозглашена Нахичеванская Советская Социалистическая Республика. Условием заключения советско-турецкого договора о границах стало вхождение Нахичевани в состав Азербайджана [2, с. 120; 1, с 109].
Несмотря на сложное и местами недостаточно изученное прошлое, а также особый статус Нахичевани в армянской исторической памяти, на протяжении всей истории статистических наблюдений (т.е., последних двухсот лет) можно констатировать, что территория республики была заселена преимущественно азербайджанцами. Численность армян в 30-е гг. XIX столетия достигала 40% процентов населения края (во многом, за счет переселенцев из Ирана) [3, с. 636–638].
По данным первой всеобщей переписи населения Российской Империи 1897 г., армяне составляли треть населения. Известные драматические события XX в. привели к резкому сдвигу в этнической и религиозной структуре населения региона, многие армяне ушли из Нахичевани навсегда. К моменту образования АССР они составляли чуть более одной десятой ее жителей [2, с. 120].
После Карабахского конфликта в конце 80-х годов ХХ в. армян в Нахичевани практически не осталось, и относительно стабильное сосуществование разных культур в Нахичевани было прервано.
Сухой континентальный климат региона, относительная изоляция от основной части Азербайджана, горный рельеф и отсутствие мегаполисов способствовали сохранению исторических памятников разных культур и эпох, дифференциации говоров нахичеванского диалекта азербайджанского языка и иных архаических элементов локальных идентичностей, давших основание выделять их отдельную группу.
Превращение Нахичевани в почти мононациональную республику, единственным заметным меньшинством которой являются курды, предопределило особенность записанных во время полевых исследований интервью, заключающуюся в наличии определенного временного лага между временем интервьюирования и теми событиями и явлениями, о которых рассказывали наши собеседники. Более того, зачастую информанты выступали не как очевидцы, а, скорее, как интерпретаторы различных периодов прошлого. Большинство рассказов в этом случае отсылают к авторитетным источникам – местным ученым и представителям властей. То есть, любой экскурс в историю был опосредован дискурсом письменной культуры, усвоенной не в ходе неформального общения с непосредственным окружением, а при помощи формализованного обучения и самообразования. Заметим, что и рассказы очевидцев относятся не к настоящему времени, а к позднесоветскому периоду. Автобиографические нарративы размывают границу между вымыслом и реальностью, подчиняясь определенным правилам повествования и опираясь на общее смысловое поле варьируемых элементов, когда одно понятие передается различными синонимичными лексемами. Отсюда – пластичность, вариативность и даже кажущаяся противоречивость текстов, описывающих как прошлое, так и настоящее.
По сути, мы имеем дело с коллективной памятью, которая функционирует в двух главных формах, называемых Я. Ассманом: культурной и коммуникативной памяти [4, c. 52]. Культурная память обращается к отдаленному прошлому группы (ее «истокам» или происхождению), а коммуникативная связана с воспоминаниями о недавно пережитом, которые человек разделяет со своими современниками, и имеет черты биографического воспоминания.
Отметим несколько наиболее часто повторяющихся мотивов «армянской» темы, характеризующие «исторические» нарративы наших азербайджанских собеседников.
Одним из самых распространенных является мотив «Армяне-мигранты»1:
«Но армяне временно здесь жили. Здесь старики у них жили. Летом приезжали, уезжали, вот так. Они еще в царские времена сюда переселились из Ирана и Турции, в основном из Ирана. Раньше здесь не жили. Они временные. Их родины здесь не было (в Нахичевани)»2; «Армяне пришли сюда. Они пришли из Индии, они как цыгане»3; «Раньше люди все время переселялись, занимались скотоводством. Сюда армяне переселились в основном с Ирана. Это связано, между прочим,
с Грибоедовым»4; «В 1915 году армяне переселились в Верхний Айлис. Был старый Верхний Айлис и новый Верхний Айлис – здесь при советской власти стали
раздавать земли. Сюда армяне переехали после 1827 года из Ирана. Армяне и азербайджанцы <после этого> стали жить вместе»5; «А откуда здесь появились армяне? – из Индии, Ирана, Турции. Они никогда раньше не появлялись здесь. Они никогда на Кавказе не жили. Они приезжий народ. А то, что где-то есть надписи, сделанные 2000 лет назад на армянском языке, это все вранье»6.
Эти и другие рассказы объединены представлениями об армянах как о «временных жителях», недавних переселенцах, «мигрантах» и призваны легитимизировать отсутствие армянских жителей в Нахичевани в настоящее время. Одновременно с этим здесь можно увидеть оспаривание представлений об «армянской истории» региона и в целом тенденцию к «омоложению» культурного наследия нахичеванских армян. Подобные истории являются устной формой репрезентации коллективной памяти местного азербайджанского населения. Они представляют собой тип исторического знания, имеющего, прежде всего, внешнее происхождение – учебники истории, исторические монографии, выступления политиков и т.д., которые составляют, по выражению Геллнера, государственный и национальный комплекс историко-культурных нарративов [5, с. 7]. Важно отметить, что вышеописанный историографический по происхождению нарратив опирается на интерпретацию данных о масштабной иммиграции армян из Ирана после заключения в 1828 г. Туркманчайского договора, отложившихся в российских источниках [6, с. 125–127; 7, c. 316–317, 328–338, 353–350; 2, с. 120; 3, с. 599–630]. Однако распространенный среди азербайджанских исследователей «аккуратный» тезис о том, что «в национальном составе населения Нахчывана на протяжении веков всегда преобладали азербайджанцы» [8, c. 13], в устах информантов полемически заостряется и трансформируется в отрицание присутствия здесь армян «с самого начала».
Другой, не менее популярный мотив – «Армянское наследие = албанское наследие». На сегодняшний день история и культура Кавказской Албании, располагавшейся где-то в центре Закавказья, крайне малоизучены [9]. Находки двадцатилетней давности позволяют отнести письменный язык албанов к лезгинской группе нахско-дагестанской семьи языков и связать их с современными удинами [10, p. 167–230]. Однако обширная территория и историческое значение Албании делают ее желанным строительным материалом для конструирования фундамента не только азербайджанской и армянской, но и лезгинской идентичностей [см., напр.: 11; 12, с. 9–74; 13; 14]. Результаты усилий в данном направлении среди нахичеванских азербайджанцев отчетливо прослеживаются в материалах интервью:
«Храмы были разрушены, просто заброшены. Мы слышали, что в албанские церкви ходили армяне. Это ученые говорили, что это не армянские церкви, а албанские»7; «Их родины здесь не было (в Нахичевани). Здесь много развалин церквей, но это албанские»8; «Есть здесь старое кладбище, но там надписи не армянские, а албанские. Сейчас их не осталось – говорят, многие из них увезли армяне, а многие наши разрушили»9; «В Нахичевани есть церкви, но это не армянские, а албанские церкви. В Азербайджане еще до принятия мусульманства была большая кавказская албанская империя. Это были христиане. Вот что, что сейчас показывают
армяне в Карабахе, Армении – это не армянское, это сплошное вранье. Албания развалилась, а их памятники сохранились»10; «Вообще, армяне вроде мигрантов. Здесь всегда больше было азербайджанцев. Были древние храмы, но они не армянские, а на самом деле албанские»11; «Не армянская, это албанская, эта (церковь)…. Там город, там есть…это…место, раньше, наверное, тоже пир был. Он тоже албанский, один пир был. Не азербайджанский, не армянский, это был албанский»12; «Здесь в Айлисе была албанская церковь, она разрушенная... В верхнем Айлисе больше жило армян, в нижнем – азербайджанцев. Вот это старинное дерево – орех, фисташковое дерево. Оно единственное в Ордубаде. Здесь стояла албанская церковь, она давно была разрушена»13; «Армянские ученые создали миф. Геродот писал о районе Армении и его жителях – армениянах, а армянские ученые перевели это как армяне. Но какие армяне во II веке? Армянские церкви появились только в XV веке. Эчмиадзин – там было азербайджанское село Учкилисе – 3 церкви. Это были албанские церкви. Только после разрешения стали строить армянские церкви»14.
В этих нарративах мы сталкиваемся с явлением, которое можно назвать «опосредованной доместикацией» прошлого, когда «чужие» материальные артефакты отчуждаются от права быть частью истории, принадлежащей актуальным оппонентам – в данном случае, армянской культуре. Отчуждение происходит путем переинтерпретации многочисленных памятников, в том числе, храмов и кладбищ. Эти следы давнего и недавнего прошлого превратились в символические фигуры, с которыми связываются воспоминания, угрожающие доминирующему дискурсу, поскольку выступают свидетельствами версии истории, отличной от общепринятой среди азербайджанцев. Это не просто следы прошлого, а почитаемые святые места, которые были для местных армян «опорными пунктами воспоминания» [4, c. 40], символами их идентичности. Подобные, отличные от господствующей памяти и укорененные в пространстве воспоминания поддерживают то, что Я. Зерубавель назвала контрпамятью – «альтернативную повествовательную модель, прямо противоречащую общей повествовательной конструкции и существующую вопреки подавляющему превосходству последней» [15, c. 22–23]. Понятно, что таковой она выступает только в рамках коллективной памяти нахичеванских азербайджанцев, поэтому верна и противоположная ситуация, когда азербайджанская версия памяти выступает как контрпамять, но уже в рамках общеармянского исторического дискурса.
В результате переосмысления христианские археологические памятники стали выступать как свидетельства исторического прошлого «третьей стороны» – албанской, которая иногда ассоциируется с «доисламским прошлым» азербайджанцев. Иными словами, церкви принадлежат предкам азербайджанцев, которые раньше, во времена христианства, именовались албанами:
«До ислама здесь была какая-то религия. До ислама было христианство. Вот мой прапрадед, кем он был до появления ислама? Он же не мог без религии, нужно же было во что-то верить, без этого нельзя было выжить. Люди молились. В Азербайджане, я думаю, не было идолопоклонничества, какому-нибудь камню или
дереву. Верили единому Богу. Поэтому, я думаю, это было христианство. Тогда пророк Иисус был для них общим, просто ислама еще не было. Он появился только в VII веке, а мой прадед должен же был во что-то верить»15.
Память нуждается в определении в пространстве, поэтому «изгнание» армян из прошлого конкретных географических объектов, лишение их локализации направлены на гомогенизацию этнокультурного и религиозного пространства Нахичевани, укореняя в нем азербайджанское население.
Еще один мотив, правда, не столь часто встречающийся в рассказах, как предыдущие – «Общие предки»:
«Раньше здесь не было ни христиан, ни мусульман, были язычники. Потом делили – половина приняла мусульманство, половина – христианство»16; «Храмы здесь не армянские, а наших бабушек и дедушек, перед мусульманством»17; «А потом после арабских завоеваний, они 300–400 лет жили, уже мусульманство распространилось. Поэтому, я думаю, эти места не относятся ни к какому народу – это была общая земля и церкви, соответственно»18.
Этот мотив примечателен тем, что не устраняет полностью оппонентов (армян) из прошлого Нахичевани, но это прошлое скорее связано с общим для всех язычеством, а затем, в некоторых случаях, и христианством. Подспудно здесь содержится встречающееся в историографии [16, с. 121] представление об армянах как той части общих предков, которая сделала «неправильный выбор» – приняла христианство, либо «задержалась» на общем – «христианском» – этапе истории. Таким образом, если вспомнить высказывание Р. Суни об исламе, который «может быть верой, идеологией, культурой или идентичностью» [17, c. 102], здесь принятие ислама выступает как важнейший шаг по различению армян и азербайджанцев, с одной стороны, и как конститутивный элемент идентичности последних, с другой.
Другие мотивы, которые можно выделить по нашим полевым материалам, отсылают большей частью к так называемой «коммуникативной памяти» (Ассман), то есть, связаны с воспоминаниями биографического характера. Так, мотив «Армяне – друзья» эксплицирует тему «дружной семьи» народов региона, гостеприимства и смешанных браков. Эти воспоминания интересны нарочитой деактуализацией этноконфессиональных групповых границ и отсылкой к советской общности, вызванной «сладостным чувством ностальгии» [18, c. 334]. Это вид памяти, которая создает общность:
«У меня друзья армяне были. У нас армяне жили, они по-армянски не говорили, по-нашему говорили… Для меня нет разницы между армянами, лезгинами, азербайджанцами»19; «Отношения хорошие раньше были, даже не знали, кто армянин, кто азербайджанец. Мы не могли по-армянски говорить, а они наш язык знали и говорили на нем… Ходили друг к другу в гости»20; «Мы не отличаем азербайджанца, армянина, русского – либо хороший человек, либо плохой. В нашем районе не было такого мужчины, у которого не было друга-армянина. Наоборот, если не было, то на него косо смотрели, почему у него нет друга. Они ездили к нам
в гости, ночевали у нас»21; «Дружили <с армянами>. Жен мы брали, они от нас… Давно я знал моего друга армянина. Война, когда началась, я узнал, что Алик – армянин. Я даже не знал, он азербайджанец или армян»22; «Отношения хорошие раньше были, даже не знали, кто армянин, кто азербайджанец»23.
Продолжением темы общности и дружбы является мотив «Почитание общих святых мест / совместное празднование».
«Праздновали каждую пятницу марта. Армяне и курды тоже участвовали – собирались женщины по 4–5 человек и пекли хлеб в тандырах. Армяне знали азербайджанский язык»24; «Среди армян были люди, кто о чем-то мечтал, и если сбывалось, то ходили к тем же святым местам, что и азербайджанцы. Они верили в это. Не важно, кто: христианин или азербайджанец ты – все ходили»25; «Раньше здесь и армяне жили, женились с ними. Пока не было поганой войны. Они уехали еще в советское время, еще до войны. Армяне тоже ходили к пиру, если что случилось. Это пир XVII века Аг-Оглан»26; «У них <армян> вот здесь пир есть. Каждый сентябрь они приезжали сюда. Барана резали, выпивали, где-то три дня, … каждый год приезжали»27; «Были такие места, куда приходили и армяне, и азербайджанцы, и из других наций. И они считали это священное место общим. Ходили в случае болезни. И делали молитвы, каждый, конечно, по-своему, но одно место»28; «У них (армян) тоже пир есть. Каждый сентябрь они приезжали сюда, все, из Еревана… все армяне… баранов резали, выпили, где-то три дня, у них каждый год приезжали… Шашлык сделали, выпили. Все <отмечали>. И мы приходили… Я сколько раз с ними выпивал29; «Еще была полуразрушенная то ли албанская, то ли армянская церковь, то ли мечеть. В нее ходили как азербайджанцы, так и армяне – нужно было две ночи там переночевать, чтобы забеременеть»30.
В большинстве случаев, как показывают полевые материалы, сакральные места у армян и азербайджанцев не совпадали: каждый исполнял свои религиозные практики, не вникая в обычаи другой этнической группы, но и не посягая на «чужую» святыню [2, с. 129]. Но вышеприведенные выдержки из интервью представляют собой значимые исключения. При сохранении этноконфессиональных границ воспоминания о почитании местных святынь и праздников утверждают другую групповую идентичность, которая имеет «территориальный» характер и связана с конкретными пространственными точками. Эта особая память, которая укоренена в сакральном пространстве, границы которого отчасти совпадают для разных этноконфессиональных групп. Даже в случае признания святыни чужой, ее значимость и сакральный статус не отрицаются: «В 2000 г. тракторист шиит отказался сносить ее <армянскую церковь>, а другой тракторист, суннит, согласился. Так вот, он после этого заболел и умер потом»31.
Еще один часто встречающийся мотив, характерный для Нахичевани – «Кирва-армянин». В азербайджанском языке это слово (kirvә) имеет два значения. Во-первых, это человек, который держит ребенка при обрезании (сюннет), во-вторых, обращение к человеку, подчеркивающее, что его считают очень близким, практически членом семьи [19, с. 192]. В Нахичевани азербайджанские семьи нередко приглашали армян быть для их ребенка кирва. Хотя требования, чтобы кирва был представителем другой конфессии или другого народа, не было, это была распространенная практика, сближавшая представителей двух групп [2, с. 128–129]. Наши материалы содержат указания на обычай кирва как способ установления «искусственного родства» между армянами и азербайджанцами с целью взаимной поддержки, в результате которой формировались межгрупповые, так называемые «сильные связи» – духовное родство. Любопытно, что благодаря тому, что кирва во время сюннета держал на коленях мальчика и на его ноги попадала кровь обрезаемого, новые отношения в результате буквализации иногда начинали интерпретироваться как «родство по крови». С этого момента кирва-армянин становился своего рода «кровным родственником» азербайджанской семьи мальчика, прошедшего обряд обрезания, а браки между представителями двух кланов запрещались:
«Время обрезания приглашали кирва. На него кровь попадает. С армянами тоже было так, они были кирва»32; «Был у нас кирва – приглашают на обрезание. Это как близкий родственник. Во время обрезания он на коленях держит мальчика и ему на ноги попадает кровь – он становится как кровный родственник. Армяне тоже были кирва – приглашали только хорошего человека»33; «На кирву приглашали армянина, он считался самым уважаемым человеком. Армяне были близки азербайджанцам»34; «Был такой обычай – кирва. В основном это делал армянин. У них не было такого обычая – это обрезание. Я скажу, почему это было священное и нельзя жениться на дочери кирва. Кирва выше брака считалась. Духовное родство. У вас есть крестный отец? У нас типа крестного отца. Он держит мальчика на коленях, сейчас, конечно, не держат – доктора лазером делают»35.
Обычай кирва, как показало исследование, был действенной практикой по преодолению этнических барьеров. Благодаря ему создавалась социальная сеть, легитимирующая близкие регулярные межконфессиональные отношения, которые описывались как близкородственные. Этот институт служил инструментом расширения круга родственников за счет включения представителей иной этнической группы и конфессии с целью укрепления положения семьи. Но было бы, пожалуй, неоправданным упрощением ограничивать функционал кирва конструированием общности между армянами и азербайджанцами. Парадокс описанного института заключается в его включенности в обряд обрезания, относимого исследователями «к тем символическим моментам, которые должны определить различия между исламской и неисламской культурами; его основная функция – определить принадлежность человека к исламу» [20, c. 499]. То есть, обрезание актуализирует те самые границы, к преодолению которых стремится институт кирва. Более того, практика кирва могла быть направлена на упрочение барьеров на пути установления потенциальных брачных союзов с представителями армянского населения, поскольку отношения квазиродства исключали заключения браков между его участниками:
«Почему приглашали именно армянина? Потому с армянами у нас были общие, как сказать, некоторые черты, которые у них есть. У нас в кирва не брали потому, что в будущем, может быть, будет любить свою дочь. А его дочь нельзя выдать замуж, потому что кирва. А армянин не будет жениться, он знает, что такое кирва. Он знает, что он должен быть честным»36.
Важно, что подобные последствия обряда не просто осознаются информантами, но и зачастую служат обоснованием выбора кирва из «чужого», в данном случае, армянского сообщества с целью расширения возможностей брачного выбора именно в «своем», однородном в этническом и религиозном отношении круге.
Наконец, упомянем еще один характерный для коммуникативной памяти мотив – «Одинокая армянка»:
«У нас здесь жила армянка, она недавно умерла. Она замужем за азербайджанцем была»37; «У нас армянка была, она старая была. Куда мне ехать, говорит. Она умерла и ее похоронили на мусульманском кладбище»38; «Война была, только одна женщина осталась здесь. Ее муж не пустил, она не хотела уехать, только одна армянка живет»39; «У нас в деревне была армянка, она в там и умерла. Когда война началась, она отказалась уезжать: я здесь родилась, выросла, здесь и умру. Хотели ее отправить во время 1990 г. За ней ухаживали. Войну проиграли, она умерла, ее похоронили на нашем мусульманском кладбище»40.
Этот расхожий нарратив примечателен во многих отношениях. Во-первых, в приведенных рассказах конструируется контекст, который компенсирует у местных азербайджанцев чувство утраты территориальной групповой общности с армянами после их исхода из Нахичевани – не все уехали, армяне продолжали и продолжают жить в республике. Более того, по словам одного информанта «сейчас в Азербайджане живут около 30 тысяч армян. И здесь (в Нахичевани), конечно, живут, они просто, как сказать, не афишируют и не надо, люди и так знают. Они уважают наши обычаи и любят… Я думаю, где каждый человек хочет жить – должен жить»41. Во-вторых, здесь в завуалированном виде можно увидеть представление о непричастности местного азербайджанского населения к отъезду армян – это было их добровольное решение, либо их спровоцировали азербайджанские беженцы из Карабаха: «В 1988 году знакомые армяне не хотели отсюда уезжать. Здесь жили, здесь работали. Почему они должны были уезжать? Но они вынуждены были уезжать. Потому переезжают наши <из Карабаха>, они агрессивнее, хочешь не хочешь, но их выгнали, и они агрессивнее… И здесь обида. И они, которые сюда пришли, вынудили армян уехать»42. Наконец, сам образ одинокий армянки, за которой ухаживают соседи, выступает в роли инструмента закрепления ощущения превосходства большинства над армянским меньшинством или, по крайней мере, патерналистского чувства по отношению к оставшимся, которые слабы и одиноки и потому требуют заботы и попечительства со стороны азербайджанских односельчан.
В целом, общей чертой записанных исторических нарративов нахичеванских азербайджанцев является ярко выраженное стремление к «детерриториализации» и «омоложению» культурного наследия местных армян. Иными словами, армянское население рассматривается как некоренное и пришлое. Параллельно существует и другая версия истории региона, не исключающая древность проживания здесь армянского населения. В этом случае говорят об общих предках азербайджанцев и армян, разделение которых произошло в результате исламизации и христианизации. Также общей тенденцией является переинтерпретация многочисленных памятников армянского присутствия, в том числе, храмов и кладбищ как свидетельств албанской, а не армянской традиции.
По сути, армян изгоняют из прошлого конкретных географических объектов, лишают их локализации, при этом вполне допуская, а чаще даже акцентируя и идеализируя их присутствие в личном прошлом информантов: добрососедские отношения, приглашение в качестве кирва представителей местного армянского населения, взаимовыгодная торговля и т.д. являются общим рефреном воспоминаний наших собеседников.
Обзор материалов интервьюирования позволяет говорить о насыщенности нарративов нахичеванских азербайджанцев «армянскими» мотивами, которые в определенном смысле являются отражением, как это ни странно, их некоторой «армяноцентричности». Присутствие «армянского» слоя в рассказах можно объяснить несамодостаточностью, зависимостью азербайджанского дискурса от армянского, что проявляется в ведении постоянного, имеющего скрытую форму, спора с конкурирующими историческими нарративами. В этом смысле, другие, неазербайджанские версии осмысления истории и культурного наследия региона вносят свой, во многом существенный вклад в формирование культурной памяти азербайджанцев Нахичевани.
1. При цитировании полевых материалов здесь и далее мы указываем год и место записи интервью, а также пол, год и место рождения информанта.
2. ПМА 2022, муж., 1967 г.р., сел. Билав.
3. ПМА 2023, муж., 1965 г.р., сел. Нюснюс.
4. ПМА 2023, муж., 1963 г.р., сел. Нюснюс.
5. ПМА 2023, муж., 1965 г.р., сел. Нюснюс.
6. ПМА 2023, муж., 1975 г.р. сел. Ахура.
7. ПМА 2022, муж., 1964 г.р., г. Нахичевань.
8. ПМА 2022, муж., 1967 г.р., с. Билав.
9. ПМА 2021, муж., 1960 г.р., г. Джульфа.
10. ПМА 2023, муж., 1975 г.р., сел. Ахура.
11. ПМА 2021, муж., 1959 г.р., сел. Демирчи.
12. ПМА 2023, муж., 1970 г.р., сел. Шахбуз.
13. ПМА 2023, муж.,. 1965 г.р., сел. Нюснюс.
14. ПМА 2022, муж., 1976 г.р., сел. Ибадулла.
15. ПМА 2023, муж., 1965 г.р., сел. Нюснюс.
16. ПМА 2022, муж., 1967 г.р., сел. Билав.
17. ПМА 2022, муж., 1969 г.р., сел. Билав.
18. ПМА 2023, муж., 1965 г.р. сел. Нюснюс.
19. ПМА 2023, муж., 1965 г.р., г. Нахичевань.
20. ПМА 2023, муж., 1962 г.р., г. Нахичевань.
21. ПМА 2022, муж., 1940 г.р., сел. Ибадулла.
22. ПМА 2023, муж., 1970 г.р., сел. Шахбуз.
23. ПМА 2022, муж., 1962 г.р., г. Нахичевань.
24. ПМА 2021, муж., 1960 г.р., сел. Демирчи.
25. ПМА 2023, муж., 1975 г.р., сел. Ахура
26. ПМА 2022, муж., 1965 г.р., сел. Садарак.
27. ПМА 2023, муж., 1970 г.р., сел. Шахбуз.
28. ПМА 2023, муж., 1965 г.р., сел. Нюснюс/
29. ПМА2023, муж., 1970 г.р., сел. Шахбуз.
30. ПМА 2021, муж., 1960 г.р., сел. Джульфа.
31. ПМА 2021, муж., 1960 г.р., сел. Джульфа.
32. ПМА 2022, муж., 1976 г.р. сел., Ибадулла.
33. ПМА 2022, муж., 1964 г.р., г. Нахичевань.
34. ПМА 2023, муж., 1975 г.р., сел. Ахура.
35. ПМА 2023, муж., 1965 г.р., сел. Нюснюс.
36. ПМА 2023, муж., 1965 г.р., сел. Нюснюс.
37. ПМА 2022, муж., 1964 г.р. г. Нахичевань.
38. ПМА 2022, муж., 1940 г.р., сел. Ибадулла.
39. ПМА 2023, муж., 1970 г.р., сел. Шахбуз
40. ПМА 2022, муж., 1976 г.р., сел. Ибадулла.
41. ПМА 2023, муж., 1965 г.р., сел. Нюснюс.
42. ПМА 2023, муж., 1965 г.р., с. Нюснюс.
Dmitry А. Baranov
Russian Ethnographic Museum
Author for correspondence.
Email: dmitry.baranov@list.ru
ORCID iD: 0000-0003-4129-7771
Russian Federation
Cand. Sci., Head of the Dep. of Ethnography of the Russian People
Vladimir А. Shorokhov
St. Petersburg State University
Email: helveticw@bk.ru
ORCID iD: 0000-0002-0866-8529
Russian Federation
Cand. Sci., Associate Prof. of Institute of Theology
- Shnirelman VA. Wars of Memory: Myths, Identity and Politics in Transcaucasia. Moscow: ICC “Akademkniga”, 2003. (In Russ)
- Andreeva YuO., Gulyaeva EYu. Nakhichevan Armenians: memory of the neighborhood in the 1950s–1980s. Kunstkamera. 2022; 16(2): 116-133. (In Russ)
- Shopen II. A historical monument to the state of the Armenian region during the era of its annexation to the Russian Empire. Saint-Petersburg: Imp. Academy of Sciences, 1852. [4], XII p., 1232, VIII stb. (In Russ)
- Assman Y. Cultural memory: writing, memory of the past and political identity in the high cultures of antiquity. Transl. from German M.M. Sokolskaya. Moscow: Languages of Slavic culture, 2004. (In Russ)
- Gellner E. Nation and nationalism. Moscow: Progress Publ., 1991. (In Russ)
- Grigoriev VN. Statistical description of Nakhichevan province. Saint-Petersburg: Dep. of Ext. Trading, 1833. (In Russ)
- Review of Russian possessions beyond the Caucasus in statistical, ethnographic, topographical and financial terms. Part IV. Saint-Petersburg: Type. Department of Ext. Trade, 1836. (In Russ)
- Ragimov YaN. History of the city of Nakhchivan in Russian sources. “Integration of science and practice in modern conditions”: Materials of the III International Scientific and Practical Conference. LLC “NOU “Vector of Science”, scientific editor S.V. Galachieva. Moscow: Pero, 2015: 9-16.
- Alikberov AK. Caucasian Albania and Lezgin peoples: current problems, new discourses. Albania Caucasica: collected articles. Vol. I. Moscow: Institute of Oriental Studies of RAS, 20156 16-27. (In Russ)
- Gippert J, Schulze W. The Language of the Caucasian Albanians. Caucasian Albania: an International Handbook. Berlin, Boston: De Gruyter Mouton, 2023. pp. 167–230.
- Hewsen R.H. Ethno-history and the Armenian influence upon the Caucasian Albanians. Classical Armenian Culture. Influence and Creativity. Chicago: Scholars Press, 1982. pp. 27–40.
- Muradyan PM. History is the memory of generations: Problems of the history of Nagorno-Karabakh. Yerevan: Hayastan, 1990. (In Russ)
- Abduragimov GA. Caucasian Albania-Lezgistan: history and modernity. Saint-Petersburg; Makhachkala: Dag. State Ped. University, 1995. (In Russ)
- Mamedova F. Caucasian Albania and Albanians. Baku: CICA, 2005. (In Russ)
- Zerubavel Ya. Dynamics of collective memory. Empire and nation in the mirror of historical memory. Moscow: Novoe Izdatelstvo, 2011: 7-17. (In Russ)
- Akhundov DA. Architecture of ancient and early medieval Azerbaijan. Baku: Azerneshr, 1986. (In Russ)
- Suni R. Dialogue about the Genocide: the efforts of Armenian and Turkish scientists to understand the deportations and massacres of Armenians during the First World War. Empire and nation in the mirror of historical memory. Moscow: Novoe Izdatelstvo, 2011: 75-114. (In Russ)
- Goffman A.B. Sociology of tradition and modern tradition. Rossiya Reformiruyshayasa. Moscow: Institute of Sociology of RAS, 2008; 7: 334–352.
- Baranov DA., Gulyaeva EYu. Kirva Institute: Breaking Ethnic and Religious Barriers? Eurasia: dialogue of cultures. Proceedings of the Twenty-Second Saint-Petersburg Ethnographic Readings. Saint-Petersburg: Russian Ethnographic Museum, 2023: 191-199. (In Russ)
- Musaeva MK., Solovyova LT. The rite of circumcision among the peoples of the Caucasus. History, archeology and ethnography of the Caucasus. 2022; 18(2): 497-518. (In Russ)
Supplementary files
There are no supplementary files to display.
Views
Abstract - 552
PDF (Russian) - 207
Article Metrics
Metrics powered by PLOS ALM