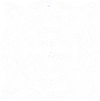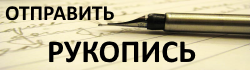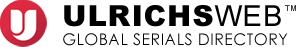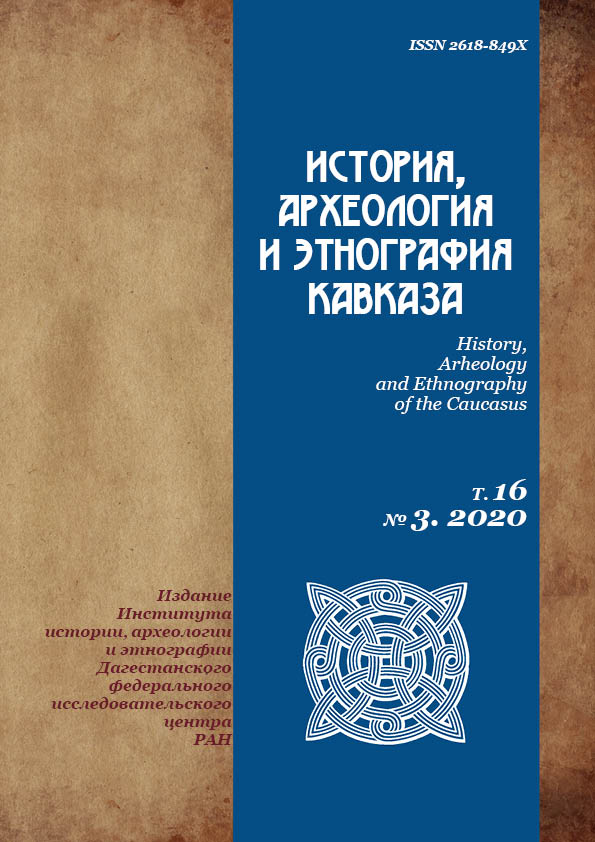РАННЕСРЕДНЕВЕКОВЫЙ МОГИЛЬНИК ГУСАРА I В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
- Авторы: Кадзаева З.П., Канукова М.М.
- Выпуск: Том 16, № 3 (2020)
- Страницы: 811-829
- URL: https://caucasushistory.ru/2618-6772/article/view/1610
- DOI: https://doi.org/10.32653/CH163811-829
Аннотация
В 2003 г. Алагирский отряд Института истории и археологии при Северо-Осетинском государственном университет имени К.Л. Хетагурова (ныне Институт истории и археологии РСО-Алания) проводил раскопки могильника Гусара I в Алагирском районе Республики Северная Осетия-Алания. Исследовался разрушаемый и разграбляемый участок могильника площадью около 70 кв. м. Всего были раскопаны три грунтовые катакомбы. Они содержали немногочисленный, но довольно выразительный вещевой материал (фибулы, пряжки, бусы и др.). Раскопанные погребения были совершены в Т-образных катакомбах типа I. По оформлению деталей погребального сооружения выделяются две разновидности. Первая разновидность: входные ямы узкие и длинные; дно входной ямы и камеры находятся на одном уровне, дромос не выражен, свод камер плоский. Камеры небольшие, скорее всего, предназначены для погребения одного человека. Предположительно, погребенные были захоронены головой влево от входа. Вторая разновидность: входная яма короткая; дно входной ямы отделено от дна камеры через ступеньку; дромос выражен; свод оформлен в виде арки; под погребенными прослежена подстилка органического происхождения. Погребенные лежали головой влево от входа; зафиксирован искусственно деформированный череп. По погребальному обряду и инвентарю, раскопанные погребения относятся к раннесредневековому этапу аланской культуры Северного Кавказа в рамках второй половины VI – первой половины VII в. н.э. Вещевой комплекс из раскопанных погребений близок материалам, как раннего этапа аланской культуры, так и гуннского времени. Целью статьи является введение в научный оборот материалов могильника.
В 2003 г. Алагирский отряд ИИА при СОГУ им. К.Л. Хетагурова (ныне ГБУ «ИИА РСО-А») проводил раскопки могильника Гусара I в Алагирском районе Республики Северная Осетия-Алания (рис. 1, А). Все раскопанные погребения были совершены в грунтовых катакомбах. Они содержали немногочисленный, но довольно выразительный материал, относящийся к эпохе раннего средневековья. Целью статьи является введение в научный оборот материалов могильника.
Могильник находится в ущелье р. Карцадон, на левом ее берегу, на расстоянии 1,3 км к западу от сел. Гусара по дороге в сел. Карца (рис. 1, Б). Лесистый склон, на котором находится могильник, имеет понижение в южном направлении к пойме р. Карцадон. Площадь могильника составляет около 1000 кв. м. Высота над уровнем моря около 900–980 м.
Могильник Гусара I был открыт в 1989 г. во время строительных работ по расширению дороги между селениями Гусара и Карца. Памятник исследовался в 1990–1991 г. Р.С. Сосрановым. Тогда были раскопаны 13 погребальных комплексов – катакомбы и погребения коней (материалы не опубликованы).
В 2003 г. нами исследовался разрушаемый и разграбляемый участок могильника, непосредственно примыкающий к срезу дорожной полки, площадью около 70 кв. м. (рис. 1, В) На раскопанном участке прослеживалась следующая стратиграфия: верхний слой представлен гумусом черного цвета толщиной до 50 см; под ним находился осадочный слой каменистого суглинка желтого цвета мощностью до 45 см с линзами песка; ниже лежал слой очень плотных глинистых сланцев. В слое гумуса зафиксированы скопления камней без следов обработки. Такие же скопления визуально фиксировались на территории могильника за пределами раскопа. Из слоя желтых суглинков были впущены входные ямы катакомб. Камеры были устроены в слое глинистых сланцев. Всего были раскопаны три катакомбы (рис. 2, А).
Катакомба 141 (рис. 3, А). Погребение подверглось ограблению в древности. Входная яма трапециевидной в плане формы, ориентирована длинной осью по линии ССЗ–ЮЮВ. Длина входной ямы по верхнему контуру составила 4,3 м, ширина у задней торцевой стенки – 0,55 м, в средней части – 0,78 м. Стенки входной ямы наклонные, сужались ко дну. Грабительская яма нарушила контур входной ямы у входа в камеру. На уровне дна входная яма имела трапециевидную в плане формы, длиной 3,55 м и шириной 0,42–0,64 м. Дно входной ямы почти горизонтальное с незначительным повышением в средней части. Заполнение входной ямы состояло из рыхлого мешаного суглинка желтого цвета. Грабительская яма была заполнена мешаным грунтом, состоящим из желтого суглинка вперемешку с гумусом. В заполнении, на всех уровнях, находилось большое количество камней. Несколько фрагментов угля зафиксированы в придонной части заполнения входной ямы у входа в камеру. В заполнении входной ямы находились фрагменты стенок сосудов, изготовленных на гончарном круге: в родном заполнении – фрагмент стенки тонкостенного лощеного сосуда черного цвета; в заполнении грабительской ямы – фрагменты стенок сосуда черного цвета со следами лощения.
Вход в камеру находился в передней торцевой стенке входной ямы. Заклад был разрушен грабителями. Размеры плит: 0,74х0,63х0,24 м; 0,56х0,5х0,1 м. Входной проем неправильной овальной формы высотой 0,65 м и шириной 0,64 м. Переход в камеру не выражен – дно входной ямы находится на одном уровне с дном камеры.
Камера неправильной овальной в плане формы размерами 1,78х0,83 м, ориентирована длинной осью по линии ССВ–ЮЮЗ. Камера располагалась под углом по отношению к входной яме. Дно камеры нарушено при ограблении так, что у входа образовалась невысокая ступенька. Ровный и тщательно заглаженный участок пола сохранился в северо-восточной части камеры. Северо-западная и северо-восточная стенки камеры почти отвесные, переходят в горизонтальный свод. Юго-западная стенка камеры наклонная. Высота свода от пола в центральной части камеры 0,66 м.
Заполнение камеры состояло из затекшего из входной ямы грунта. В заполнения найдены несколько мелких фрагментов человеческого скелета.
Оставшиеся после ограбления предметы погребального инвентаря находились в заполнении камеры.
Инвентарь. Мелкая серебряная пряжка с трапециевидной рамкой, прямым язычком (рис. 3, 1; 5, 8). Передняя часть рамки имеет прямоугольный вырез для язычка. Язычок в передней части плотно охватывает рамку на всю ее высоту; изготовлен из сегментовидной в сечении заготовки. Геральдический щиток имеет прямоугольные вырезы по бокам и круглое отверстие ближе к краю. На обратной стороне щитка имеется отлитый вместе с пряжкой короткий штифт для крепления ремня. Внутренняя поверхность пряжки полая. Общая длина пряжки 2,1 см. Размеры рамки: 1,65х1,06 см. Длина щитка 1 см, ширина 1,1 см; ширина проема 1 см.
Серебряная пряжка с округлой, утолщенной в передней части рамкой, незначительно прогнутым в средней части язычком (рис. 3, 2; 5, 9). Язычок с невысоким уступом у основания не доходит в передней части до середины сечения рамки; у основания орнаментирован тремя поперечными линиями, расположенными рядом с уступом; изготовлен из прямоугольной в сечении заготовки. Размеры рамки: 1,5х1,6 см; ширина проема 1 см.
Полиэдрическая бусина из синего непрозрачного стекла (рис. 3, 4; 5 11). Канал слабо усеченно-конический (почти цилиндрический), незначительно деформирован. Бусина имеет правильный контур, грани четко выражены. Изготовлена из отрезка тянутой палочки с дополнительным прессованием на плоскость. Высота 0,9 см; размеры граней: 0,8х0,8 см.
Уплощенно-округлая бусина из синего, слегка просвечивающего стекла (рис. 3, 5; 5, 12). Канал цилиндрический. Высота 0,37 см; диаметр 0,68 см.
Шарнирная дуговидная фибула с завитком на конце пластинчатого приемника (рис. 3, 3; 5, 10). Сегментовидная в сечении спинка фибулы равномерно сужается от шарнира к ножке. Ножка узкая с декоративным выступом прямоугольной формы посередине. Завиток не сохранился. Круглая в сечении игла снабжена выступом конической формы для фиксации механизма. Все части фибулы изготовлены из бронзы. Длина фибулы 4,5 см.
Разрушенный окислами фрагмент бронзового пластинчатого предмета размерами 0,8х0,7 см.
Катакомба 15 (Рис. 4, А). Входная яма трапециевидной в плане формы со скругленной задней торцевой стенкой, ориентирована длинной осью по линии ССЗ–ЮЮВ. Длина входной ямы по верхнему контуру составила 1,95 м, ширина 0,54–0,75 м. Стенки входной ямы наклонные, сужались ко дну, юго-юго-восточная стенка значительно наклонена. На уровне дна входная яма трапециевидной в плане формы длиной 1,61 м и шириной 0,44-0,67 м. Дно ровное, с небольшим понижением к входу. Вход в камеру устроен в передней торцевой стенке входной ямы и был закрыт каменной плитой размерами 0,83х0,68х0,15 м. Заклад был дополнительно укреплен камнями на глиняном растворе. Входной проем неправильной овальной формы с арочным верхом высотой 0,8 м, и шириной 0,6 м. Переход в камеру выполнен ступенькой высотой 0,17 м.
Камера овальной в плане формы, ориентирована длинной осью по линии СВ–ЮЗ. Размеры камеры по дну 1,83х1,12 м. Камера располагалась под углом по отношению к оси входной ямы. Дно камеры относительно ровное с повышением к стенкам. Стенки камеры наклонные, плавно переходили в арочный свод высотой 0,95 м. Свод камеры ближе к входу не сохранился.
В камере находились два скелета и погребальный инвентарь. В юго-восточной части камеры на полу, ближе к входу, лежал скелет ребенка в вытянутом положении на спине, головой на юго-запад. Скелет плохой сохранности, от черепа и костей туловища сохранились полуистлевшие фрагменты, кисти и стопы не сохранились (истлели). Руки были вытянуты вдоль туловища. Погребальный инвентарь не зафиксирован.
В северо-западной части камеры на полу лежал скелет женщины на боку с подогнутыми ногами головой на юго-запад. Кости скелета хорошей сохранности. Сильно деформированный череп лежал на правой стороне, слегка завалился к юго-западу. Нижняя челюсть завалилась и лежала на костях грудой клетки. Руки погребенной были согнуты в локтевых суставах, кисти лежали перед лицом. Ноги погребенной были согнуты в коленных суставах и подтянуты к туловищу, левая нога лежала поверх правой. Несколько фаланг стопы находились на некотором отдалении у северо-восточной стенки камеры. Под скелетом прослеживались пятна темного органического тлена, вероятно, от подстилки.
Инвентарь. Под черепом находилась миниатюрная золотая округлая серьга (№ 8) размерами 0,83х8 см (рис. 4, 8; 5, 3). Серьга изготовлена из круглой в сечении тонкой проволоки диаметром 0,12 см; один край заострен.
В области грудной клетки погребенной находилась мелкая округлая бусина из зеленого непрозрачного стекла (рис. 4, 4). Канал цилиндрический. Высота 0, 25 мм; диаметр 9,45 мм.
На правом плече погребенной лежала серебряная пряжка с округлой, утолщенной в передней части рамкой, длинным хоботковым язычком (рис. 4, 2; 5, 2). Язычок с высоким уступом у основания выступает за середину сечения рамки, не прилегая к ней плотно; изготовлен из квадратной в сечении заготовки. Передняя часть язычка со следами износа от ремня. Размеры рамки 1,8х1,7 см.
У локтя правой руки лежала бронзовая шарнирная дуговидная фибула с завитком на конце сплошного пластинчатого приемника (рис. 4, 1; 5, 1). Уплощенно-прямоугольная в сечении спинка фибулы имеет два боковых выреза у головки. Спинка декорирована двумя желобками и насечками по краям. В передней части спинки, у ножки имеется прямоугольный или крестовидный выступ, декорированный косой сеткой. Узкая ножка украшена двумя прямоугольными выступами. Ось шарнира и игла – железные (игла не сохранилась). Длина фибулы 4,3 см.
Перед грудной клеткой в ряд лежали бусы, в т.ч.:
– округлая мозаичная бусина с глазчатым декором (рис. 4, 5; 5, 4): овальные и эллипсоидные, растянутые поперечно каналу сине-бело-красно-желтые глазки на фоне зеленого непрозрачного стекла (глазки расположены на всей поверхности бусины). Бусина получена путем однократного обертывания полихромной полоски вокруг инструмента (имеется шов). Канал усеченно-конический, ровный. Высота бусины 1,3 см, диаметр 1,75 см.
– крупная круглая бусина из отполированного коричнево-бордового с темными прожилками и светлыми включениями просвечивающего агата (рис. 4, 3; 5, 5). Канал слабо усеченно-конический. Высота 2,8 см, диаметр 3,2 см.
– круглая бусина с основой из зеленого прозрачного стекла с накладным глазчато-реснитчатым декором (рис. 4, 6; 5, 7). Овальной формы глазки непрозрачные, зелено-желто-белые с красными ресничками на внешнем (белом) поле. Канал цилиндрический, проходит сквозь глазки. Высота 1,8 см, диаметр 1,95 см.
– цилиндрическая бусина из красно-бурого просвечивающего янтаря (рис. 4, 7; 5, 6). Канал цилиндрический, широкий. На вершинах имеются фаски. Высота 0,9 см, диаметр 0,17 см.
Катакомба 16 (рис. 2, Б). Входная яма трапециевидной в плане формы, ориентирована длинной осью по линии ССЗ–ЮЮВ. Юго-юго-восточный участок (задняя часть) входной ямы был уничтожен при строительстве дороги. Погребение было ограблено в наше время. Грабительская яма незначительно нарушила верхние участки стенок входной ямы у камеры. Сохранившаяся длина входной ямы по верхнему контуру составила 1,94 м, ширина 0,63–0,88 м. Стенки входной ямы наклонные, сужались ко дну. На уровне дна входная яма трапециевидной в плане формы. Дно входной ямы относительно ровное. Сохранившаяся длина входной ямы по дну 1,91 м, ширина у разрушенного края около 0,42 м, у камеры 0,73 м. Вход в камеру находился в передней торцевой стенке входной ямы. Заклад был разрушен грабителями. Входной проем четырехугольной формы со скругленными углами размерами 0,56х0,56 м. Переход в камеру не выражен. Дно входной ямы находится на одном уровне с дном камеры. Камера округлой в плане формы размерами 0,94х0,9 м. Пол камеры ровный, к стенкам повышался. Стенки камеры наклонные, плавно переходят в свод. Дальняя от входа стенка отвесная, переходит в почти горизонтальный свод. Высота свода 0,49 м. В заполнении камеры в беспорядке находились кости одного погребенного. Судя по расположению костей, предположительно, погребенный находился головой влево. В заполнении камеры найден небольшой железный однолезвийный нож длиной 7,7 см (рис. 2, В, 1; 5, 13).
Все раскопанные погребения были совершены в катакомбах типа I (Т-образные) по К.Ф. Смирнову [1, с. 73–81], ориентированы длинной осью вверх по склону по линии ССЗ-ЮЮВ. По оформлению деталей погребального сооружения выделяются две разновидности. Первая разновидность (катакомбы 14, 16): входные ямы узкие и длинные; дно входной ямы и камеры находятся на одном уровне, дромос не выражен, свод камер плоский. Камеры небольшие, скорее всего, предназначены для погребения одного человека. Предположительно, погребенные были захоронены головой влево от входа. Вторая разновидность (катакомба 15): входная яма короткая; дно входной ямы отделено от дна камеры ступенькой; дромос выражен; свод оформлен в виде арки; под погребенными прослежена подстилка органического происхождения. У женщины, погребенной в этой катакомбе, череп искусственно деформирован.
Ниже рассмотрим погребальный инвентарь из раскопанных катакомб в аспекте его хронологии.
В катакомбах 14 и 16 находились две бусины, две пряжки, фибула и железный нож (рис. 2, В, 1; 3, 1–5). Наиболее изученными на сегодняшний день являются полиэдрические бусы из синего стекла (рис. 3, 4). Стеклянные полиэдрические бусы разных цветов В.Б. Ковалевская включила в ячейку МЕР 117 [2, с. 21]. Подробно полиэдрические бусы из синего стекла рассматривались А.А. Мастыковой. Данные бусы существуют от римского времени до средневековья включительно, но более всего популярны во второй половине III в. и в течение всего IV в. н.э. [3, с. 438–440; 4, с. 106–108]. Известны синие полиэдрические бусы в VII в. н.э. и позднее [5, с. 366].
На территории горных районов Центрального Кавказа (Северная Осетия) полиэдрические бусы из синего стекла происходят с могильника Дагом из катакомб 1, 7, 18 «первого хронологического периода» и катакомбы 9 «второго хронологического периода» могильника по Э.Ю. Шестопаловой [6, рис. 81, 9, 10/2, 20о, 11, 17]. Фрагмент полиэдрической бусины из синего стекла находился в погребении 4 могильника Чми 1 (Беахни-Куп) из раскопок М.П. Абрамовой [7, с. 70, рис. 3, 18]. Единичные экземпляры полиэдрических бус из синего стекла происходят с могильников Архон [6, с. 141] и Садон (раскопки З.П. Кадзаевой; не опубликованы). Известны они также в Чми (Суаргом) в катакомбе Е из собрания Ф. Хегера [8, табл. XXIV, 1, 2] периода 2 по И.О. Гавритухину [9, рис. 83; 10, с. 411]. Таким образом, исходя из изложенного выше, полиэдрические бусы из синего стекла существуют от римского времени и до VIII в. включительно.
Бронзовая шарнирная дуговидная фибула с завитком на конце пластинчатого приемника2 (рис. 3, 3), соотносится с фибулами группы 13 по А.К. Амброзу [11, с. 46-47, табл. 6, 3-9]. На Северном Кавказе шарнирные фибулы известны в комплексах II – первой пол. III в. н.э. [12, с. 130-137], а также с VI в. н.э. и до IX в. н.э. [10, с. 411; 11, с. 46]. Со второй половины III в. по VI в. н. э. в погребальных комплексах данные застежки не известны.
Шарнирные дуговидные фибулы с кнопкой или завитком на конце сплошного приемника выделены В.Ю. Малашевым в самостоятельную «центрально-кавказскую серию» и происходят из памятников раннего этапа аланской культуры Северного Кавказа и синхронных памятников типа «Подкумок–Хумара» – от Верхней Кубани и Пятигорья до Северной Осетии [12, с. 130–137, рис. 32]. По мнению В.Ю. Малашева, исходной формой для фибул «центрально-кавказской серии», скорее всего, послужили шарнирные римские застежки типа «Avcissa», происходящие из комплексов I в. н.э.; большая часть находок относится ко II в. н.э. и продолжают встречаться в первой половине III в. н.э. Эти фибулы, являясь репликами римских застежек, по всей видимости, приходят на смену последним после окончания поступления импортных образцов [12, с. 131–132]. Из изложенного следует, что на Северном Кавказе, начиная с первой половины II в. н.э. и до середины III в., существовало местное производство шарнирных фибул «центрально-кавказской серии» по В.Ю. Малашеву.
Как отмечалось выше, позднее эти фибулы не известны. Только в раннем средневековье фибулы данной конструкции вновь появляются в материалах северокавказских могильников. А.В. Мастыкова рассмотрела шарнирные и пружинные образцы «дуговидных прогнутых фибул со сплошным приемником, треугольной спинкой и завитком на конце ножки» из могильников Северного Кавказа и Закавказья [4, с. 45–46]. Из представленных в исследовании фибул, отнесенных к позднему IV – раннему VI в. – всего две застежки шарнирные (с могильников Чми I и Едыс; см. ниже) [4, рис. 17, 5; 18, 1]. В исследовании фибул Даргавса З.Х. Албегова и П.С. Успенский предположили, что раннесредневековые даргавсские шарнирные фибулы с завитком на конце приемника генетически связаны с застежками II–III вв. «центрально-кавказской серии» по В.Ю. Малашеву, в частности, из Брутского могильника [13, с. 96–97]. Большой хронологический разрыв, разделяющий эти серии, заполнялся гипотетической возможностью соотнести некоторые приведенные в монографии А.В. Мастыковой железные подвязные фибулы IV–VI вв., конструкции которых не всегда определялись, с шарнирными, имеющими завиток на конце сплошного приемника [13, с. 96–97].
Самые ранние находки кавказских шарнирных фибул («северокавказской подгруппы») И.О. Гавритухин относит к VI в. н.э., а происхождение их связывает с античными традициями, скорее всего, сохранившимися в Закавказье, откуда они распространились на Северный Кавказ [10, с. 411], однако пути формирования данных застежек в регионе не ясны.
Наиболее ранней на Северном Кавказе, по мнению И.О. Гавритухина, находкой шарнирных фибул с завитком на конце сплошного приемника является застежка из погребения 4 могильника Чми 1 (Беахни-Куп), вещевой комплекс которого М.П. Абрамова датировала временем «не позже первой половины VI в.» (7, рис. 2, 13; 14, с. 92). Позднее дата комплекса погребения 4 могильника Чми I была расширена И.О. Гавритухиным до всего VI в. [10, с. 411]. Более ранним временем А.В. Мастыкова датировала комплекс погребения из Чми I – «гуннским или ранней частью «шиповского» горизонта, от 360/370 по 500/510 гг.» [4, с. 252]. Находка шарнирной фибулы с завитком происходит из комплекса погребения 2 могильника Едыс, датируемого второй пол. VI – началом VII в. по Р.Г. Дзаттиаты [15, с. 198–209, рис. 2, 6], со стеклянным стаканом и хоботковыми пряжками V – раннего VI в. н.э. [4, с. 45].
В катакомбе 14 найдены две пряжки. Пряжки с геральдическим щитком (рис. 3, 1) имеют широкое распространение; они объединены И.О. Гавритухиным в «ИС-5» цельнолитых пряжек с трапециевидной рамкой и фигурным щитком с датировкой для кавказских находок в рамках первой половины VII в. н.э. [9, с. 89]. Щиток пряжки соотносится обоймами В-образных «маленьких пряжек с боковыми вырезами на обойме» согласно типологии И.О. Гавритухина; хронология находок основной серии и производных вариаций укладывается в рамки от начала до середины VII в., хотя и не исключает некоторого удревнения [16, с. 185–189]. Вторая пряжка выглядит довольно «архаично»3 (рис. 3, 2). Морфологически (по форме рамки и язычка) она соотносится с пряжками типа П8 по В.Ю. Малашеву, датируемыми второй половиной III в. н. э. с территории Северного Кавказа и Нижнего Дона [17, с. 196]. По мнению В.Ю. Малашева во второй пол. III в. распространяется такой прием, как оформление основания язычка сначала в виде уступа спереди и вслед за этим в виде низкого уступа сзади (иногда это низкий рельефный выступ) [17, с. 209); в настоящее время он рассматривает появление этого признака в середине III в. [18, с. 136, 139]. Находка в катакомбе 14 могильника Гусара I ременной застежки «раннего образца», определяет ее место в комплексе, как предмета вторичного использования.
Для определения датировки погребений 14 и 16 может оказать помощь сравнение конструктивных особенностей погребальных сооружений с катакомбами из других северокавказских могильников. Например, такой признак как «дно камеры и дно входной ямы находится на одном уровне» в могильнике Брут 2 фиксируется в конце VI – первой трети VII в. н.э. (курганы 13 и 18) [12, 70, 128, рис. 83, 90]. В горных районах Северной Осетии, население которых формировалось за счет переселения людей с равнины – городищ типа Брутского, Зилгинского и др. – фиксируются катакомбы с данным признаком.
Катакомба, у которой дно камеры почти на одном уровне с дном входной ямы, зафиксирована в Дагоме (катакомба 1), погребальный комплекс которой датирован Э.Ю. Шестопаловой второй четвертью – серединой VI в. н.э. [6, с. 200]. Набор вещей в катакомбе 1 в Дагоме, включающий В-образную пряжку с обоймой, соответствующей типу «маленькие пряжки с боковыми вырезами на обойме» по И.О. Гавритухину (см. выше); выразительный набор ременной гарнитуры геральдического стиля наряду с вещами, бытование которых относится к более раннему времени, например, хоботковая пряжка и стеклянный стакан с синими каплями [6, с. 200, рис. 10–15; 12, 1; 14, 41/7; 13, 28], скорее всего, свидетельствует о более поздней дате комплекса. Катакомбы, у которых переход дна в камеру не выражен, происходят также с могильника Садон; там встречены 3 катакомбы (28, 31 и самая поздняя в группе – 68), датируемые по погребальному инвентарю в рамках около второй-третьей четверти VII в. н.э.; позднее на могильнике их нет (раскопки З.П. Кадзаевой; не опубликованы). Хотя, здесь представлена небольшая серия погребальных комплексов, но на уровне тенденции можно предположить, что данный признак, в основном, характерен для катакомб конца третье – 3-й четверти VII в. н.э.
Исходя из всего изложенного выше, наиболее вероятной датой для конструктивно идентичных катакомб 14 и 16 можно считать первую половину VII в. н.э. Основание для датировки – пряжка «ИС-5» по И.О. Гавритухину. Этой датировке не противоречат найденные в погребениях предметы.
В катакомбе 15 найдена небольшая круглая серьга из тонкой золотой проволоки (рис, 4, 8). Наиболее простые серьги из проволочных колец известны в могилах Западного и Центрального Предкавказья эпохи великого переселения народов в пределах позднего IV – раннего VI в., а также в позднеримское время [4, с. 71]. В.Б. Ковалевская серьги описываемого типа считает характерными для погребений середины IХ в. и более позднего периода [19, с. 155]. Таким образом, время бытования серег данного типа довольно широко – с первых веков н.э. до IХ в. и позже.
В катакомбе находились пять бусин из стекла, камня и янтаря (рис. 4, 3-7). Подбор аналогий для данных бус не информативен, т.к. территориальные и хронологические рамки, например, янтарных и агатовых бус простых форм достаточно широки, а также далеко не всегда возможно сравнение по публикациям. Обратим внимание лишь на шарообразную бусину из зеленого полупрозрачного стекла с накладным глазчатым декором и каналом, проходящим сквозь глазки (рис. 4, 6). Похожие бусы происходят с некрополя Дагом (катакомба 18) «первого хронологического периода» по Э.Ю. Шестопаловой [6, рис. 83, 21/п] и с могильников неволинской культуры Прикамья VII-IХ вв. (Тип IVБ14д) [20, рис. 23].
В катакомбе 15 находилась бронзовая шарнирная дуговидная фибула с завитком на конце сплошного пластинчатого приемника (рис. 4, 1), соотносимая с застежками группы 13 по А.К. Амброзу (см. выше). Наличие щитка на передней части спинки, на первый взгляд, сближает ее с фибулами серии V двучленных крестовидных фибул по А.К. Амброзу, распространенных во второй половине V-VI вв. и использовавшихся до VIII-IХ вв. в Восточной Грузии, Абхазии, Азербайджане, изредка на Северном Кавказе [11, с. 55, табл. 9, 21]. Однако крестовидный щиток на фибуле из Гусары образован боковыми вырезами на спинке фибулы. У фибул серии V по А.К. Аброзу крестовидный щиток специально сформирован в виде боковых выступов (шире самой спинки). В целом, данная застежка выглядит архаичнее, чем представленная в катакомбе 14 разновидность, но пока это не доказывается.
Хоботковая пряжка, найденная на плече женщины, захороненной в камере (рис. 4, 2) соотносится с 3-й группой ременных застежек могильника Паласа-сырт, которые в свою очередь синхронизируются с центральноевропейским периодом D2 и датируются концом IV (рубежом IV –V) – первой половиной V в. н.э. [21, с. 100]. Подборка находок хоботковых пряжек для северокавказского региона приведена А.В. Мастыковой. По ее мнению, на Северном Кавказе хоботковые пряжки, возможно, существуют до середины – второй половины VI в.; на это указывает наличие подобной ременной застежки вместе с находками геральдического стиля в погребении 6 могильника Едыс [4, с. 57]. Выше также отмечалась находка хоботковой пряжки с геральдическими вещами в катакомбе 1 могильника Дагом.
Основанием для датировки катакомбы 15 является хоботковая пряжка (рис. 4, 2). Однако дата комплекса не может быть однозначной, т.к., исходя из изложенного выше, хоботковые пряжки в горных районах Центрального Кавказе доживают до эпохи геральдических поясов. Учитывая близость расположения рассматриваемого погребения на общем плане могильника к катакомбам 14 и 16, можно предположить их близкую хронологию – около второй половины VI в. н.э. с возможностью незначительного удревнения или омоложения. Возможно, укороченные пропорции входной ямы указывают на несколько более раннюю датировку комплекса, чем катакомбы 14 и 16.
Подводя итоги, отметим, что по погребальному обряду и инвентарю, раскопанные комплексы относятся к раннесредневековому этапу аланской культуры Северного Кавказа и датируются в рамках второй половины VI – первой половины VII в. н.э. Вещевой комплекс из раскопанных погребений близок материалам, как раннего этапа аланской культуры, так и гуннского времени.
1 Нумерация катакомб продолжила нумерацию погребений 1990–1991 гг.
2 Здесь рассматриваются фибулы с шарнирным механизмом (ниже приводятся ссылки на находки, конструкция которых определена или понятна по рисунку в публикации).
3 Авторы глубоко признательны В.Ю. Малашеву за помощь в определении пряжек и рекомендации в процессе написания статьи.
https://caucasushistory.ru/2618-6772/editor/downloadFile/1610/2830
https://caucasushistory.ru/2618-6772/editor/downloadFile/1610/2831
https://caucasushistory.ru/2618-6772/editor/downloadFile/1610/2832
https://caucasushistory.ru/2618-6772/editor/downloadFile/1610/2833
https://caucasushistory.ru/2618-6772/editor/downloadFile/1610/2834
Залина Петровна Кадзаева
ГБУ "Институт истории и археологии Республики Северная Осетия-Алания, Владикавказ, Россия
Автор, ответственный за переписку.
Email: zalina.kad@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-9112-8397
Россия, 362025, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 46
Научный сотрудник
Мария Маратовна Канукова
Институт истории и археологии РСО-Алания
Email: mashe_kan@mail.ru
Россия, 362025, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 46
научный сотрудник
- 1. Смирнов. К.Ф. Сарматские катакомбные погребения южного Приуралья, Поволжья и их отношение к катакомбам Северного Кавказа // Советская археология. № 1. С. 73–81.
- 2. Ковалевская В.Б. (при участии Р.А. Бахтадзе, В.А. Галибина, З.А. Львовой). Компьютерная обработка массового археологического материала из раннесредневековых памятников Евразии. М: Пущино, ОНТИ ПНЦ РАН, 2000. 364 с.
- 3. Мастыкова А.В. Раннесредневековые бусы могильника Брут 2 // Габуев Т.А., Малашев В.Ю. Памятники ранних алан центральных районов Северного Кавказа. М: Таус, 2009. С. 438–466.
- 4. Мастыкова А.В. Женский костюм Центрального и Западного Предкавказья в конце IV– середине VI в. н. э. М: ИА РАН, 2009. 502 с.
- 5. Румянцева О.С. Бусы могильника Брут 2 второй половины II – середины III в. // Габуев Т.А., Малашев В.Ю. Памятники ранних алан центральных районов Северного Кавказа. М: Таус, 2009. С. 341–437.
- 6. Шестопалова Э.Ю. Древний Дагом. По материалам археологических раскопок Дагомского катакомбного могильника VI–VIII вв. Владикавказ: ИПЦ ИП Цопанова А.Ю., 2018. 362 с.
- 7. Абрамова М.П. Раннесредневековый могильник у с. Чми в Северной Осетии // Новые материалы по археологии Северного Кавказа. Орджоникидзе, 1986. С. 49–71.
- 8. Хайнрих А. Раннесредневековые катакомбные могильники у селений Чми и Кобан (по материалам Венского Естественно-Исторического музея) // Аланы: история и культура. Владикавказ, 1995. С. 184–258.
- 9. Гавритухин И.О., Обломский А.М. Гапоновский клад и его культурно-исторический контекст. М., 1996. 296 с.
- 10. Гавритухин И.О. Фибулы могильника Мамисондон в контексте кавказских находок // Албегова З.Х., Верещинский-Бабайлов Л.И. Раннесредневековый могильник Мамисондон: результаты археолог. исслед. 2007-2008 гг. в зоне строительства водохранилища Зарамагских ГЭС. М: Таус, 2010. С. 410–428.
- 11. Амброз А.К. Фибулы юга европейской части СССР (II в. до н.э. – IV в. н.э.) // Свод археологических исследований. Д1-30. М: «Наука», 1966. 142 с.
- 12. Габуев Т.А., Малашев В.Ю. Памятники ранних алан центральных районов Северного Кавказа. М: Таус, 2009. 468 с.
- 13. Албегова (Царикаева) З.Х., Успенский П.С. Фибулы Даргавсского раннесредневекового катакомбного могильника аланской культуры (по материалам раскопок Р.Г. Дзаттиаты 1993–2009 гг.) // Скифо-аланское наследие Кавказа. Сборник научных трудов. Владикавказ: СОИГСИ ВНЦ РАН, 2017. С. 87–114.
- 14. Абрамова М.П. Ранние аланы Северного Кавказа III–V вв. н.э. М: 1997. 165 с.
- 15. Дзаттиаты Р.Г. Раннесредневековый могильник в селении Едыс (Южная Осетия) // Советская археология. № 2. 1986. С. 198–209.
- 16. Гавритухин И.О. В-образные пряжки, изготовленные вместе с щитовидной обоймой // Пермский мир в раннем средневековье. Вып. 1. Ижевск, 1999. С. 160–208.
- 17. Малашев В.Ю. Периодизация ременных гарнитур позднесарматского времени // Сарматы и их соседи на Дону. Вып. 1. Ростов-на-Дону: Терра, 2000. С. 194–232.
- 18. Малашев. В.Ю. Некоторые аспекты контактов носителей позднесарматской культуры южноуральских степей с населением лесной и лесостепной полосы Поволжья и Приуралья // Сарматы и внешний мир. Материалы VIII Всероссийской (с международным участием) научной конференции «Проблемы сарматской археологии и истории» ИИЯЛ УНЦ РАН, 12–15 мая 2014 г. Уфимский археологический вестник. Вып. 14. Уфа, 2014. С. 130–140.
- 19. Ковалевская В.Б. Хронология древностей северокавказских алан // Аланы: история и культура. Владикавказ, 1995. С. 123–182.
- 20. Голдина Е.В. Бусы могильников неволинской культуры (конец IV-IХ вв). Ижевск: ОАО «Ижевская республиканская типография», 2010. 264 с.
- 21. Малашев В.Ю., Гаджиев М.С., Ильюков Л.С. Страна маскутов в Западном Прикаспии. Курганные могильники Прикаспийского Дагестана III-V вв. н.э. Махачкала: Мавраевъ, 2015. – 452 с.
Дополнительные файлы
| Доп. файлы | Действие | ||
| 1. | Рис. 1. А – Местонахождение могильника Гусара I на схематической карте Республики Северная Осетия-Алания. Б – Местонахождение могильника Гусара I на карте местности. В – Могильник Гусара I. Общий план раскопа с нивелировками дневной поверхности (раскопки З.П. Кадзаевой в 2003 г.) / Fig. 1. А – The location of the Gusara I burial ground on a schematic map of the Republic of North Ossetia-Alania. Б – Location of the burial ground Gusar I on the map. В – The burial ground Gusara I. General plan of the excavation with elevation marks of the day surface (investigatated by Z. Kadzaeva in 2003). | Посмотреть (3MB) | Метаданные |
| 2. | Рис. 2. А – Могильник Гусара I. Расположение погребальных комплексов на общем плане раскопа (раскопки З.П. Кадзаевой в 2003 г.). Б – Могильник Гусара I. Катакомба 16. План и разрезы погребального сооружения. В – Нож железный из катакомбы 16 (№ 1) / Fig. 2. А – The burial ground Gusara I. The location of funeral construction on the general plan of the excavation (investigatated by Z. Kadzaeva in 2003). Б – The burial ground Gusara I. Catacomb 16. Plan and profiles of funeral construction. В – Iron knife found in the catacomb 16 (№ 1). | Посмотреть (811KB) | Метаданные |
| 3. | Рис. 3. Могильник Гусара I. А – Катакомба 14. План и разрезы погребального сооружения. 1 – 5 – находки из катакомбы 14: 1, 2 – пряжки серебряные (№№ 1, 2); 3 – фибула бронзовая (№ 5); 4, 5 – бусы стеклянные (№№ 3, 4) / Fig. 3. The burial ground Gusara I. А – Catacomb 14. Plan and profiles of funeral construction. 1 – 5 – finds from the catacomb 14: 1, 2 – silver buckles (№№ 1, 2); 3 – bronze fibula (№ 5); 4, 5 – glass beads (№№ 3, 4). | Посмотреть (946KB) | Метаданные |
| 4. | Рис. 4. Могильник Гусара I. А – Катакомба 15. План и разрезы погребального сооружения. 1 – 8 – находки из катакомбы 15: 1 – фибула бронзовая (№ 1); 2 – пряжка серебряная (№ 2); 3 – бусина агатовая (№ 4); 4 – бусина стеклянная (№ 7); 5 – бусина стеклянная мозаичная (№ 3); 6 – бусина стеклянная с накладным глазчатым декором (№ 5); 7 – бусина янтарная (№ 6); 8 – серьга золотая (№ 8) / Fig. 4. The burial ground Gusara I. А – Catacomb 15. Plan and profiles of funeral construction. 1 – 8 – finds from the catacomb 15: 1 – bronze fibula (№ 1); 2 – silver buckle (№ 2); 3 – agate bead (№ 4); 4 – glass bead (№ 7); 5 – glass mosaic bead (№ 3); 6 – glass bead with an overhead ocular decoration (№ 5); 7 – amber bead (№ 6); 8 – gold earring (№ 8). | Посмотреть (1MB) | Метаданные |
| 5. | Рис. 5. Могильник Гусара I. Находки из катакомб. 1 – 7 – катакомба 15: 1 – фибула бронзовая (№ 1); 2 – пряжка серебряная (№ 2); 3 – серьга золотая (№ 8); 4 – стеклянная мозаичная бусина (№ 3); 5 – бусина агатовая (№ 4); 6 – бусина янтарная (№ 6); 7 – бусина стеклянная с накладным глазчатым декором (№ 5). 8 – 12 – катакомба 14: 8, 9 – пряжки серебряные (№№ 1, 2); 10 – фибула бронзовая (№ 5); 11, 12 – бусы стеклянные (№№ 3, 4). 13 – катакомба 16 – нож железный (№ 1) / Fig. 5. The burial ground Gusara I. Finds from the catacombs. 1 – 7 – catacomb 15: 1 - bronze fibula (№ 1); 2 - silver buckle (№ 2); 3 - gold earring (№ 8); 4 - glass mosaic bead (№ 3); 5 - agate bead (№ 4); 6 - amber bead (№ 6); 7 - glass bead with an overhead ocular decoration (№ 5). 8 – 12 – catacomb 14: 8 – 9 silver buckles (№№ 1, 2); 10 – bronze fibula (№ 5); 11, 12 – glass beads (№№ 3, 4). 13 – catacomb 16 – iron knife (№ 1). | Посмотреть (6MB) | Метаданные |